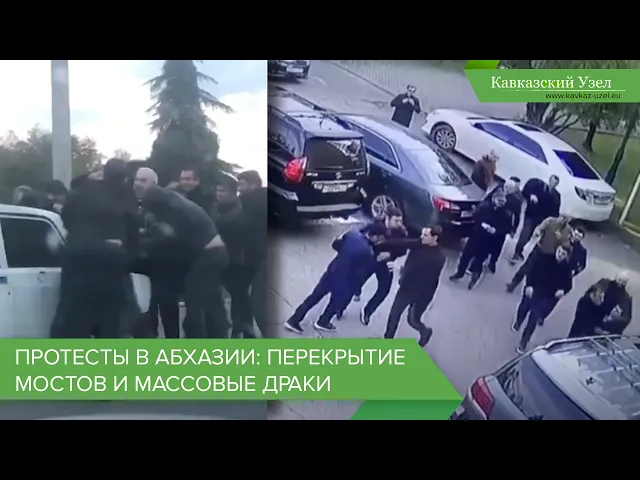Из истории адыгов в конце XVIII — первой половине XIX века: Социально-экономические очерки
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Автор — доктор исторических наук, профессор М.В.Покровский — освещает малоизвестные широкому кругу читателей страницы самобытной истории адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в. В очерках на основе большого количества архивных документов рассказывается об общественном строе и занятиях адыгов, антифеодальном движении адыгского крестьянства, развитии русско-адыгейских торговых и политических связей, а также о событиях Крымской войны на Западном Кавказе.
Книга адресована историкам, краеведам и всем, кто интересуется историей края.
Содержание
- От редакции
- Введение
Очерк первый. Социально-экономическое положение адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в
- Территория
- Занятия
- Общественный строй
- Тфокотли и образование новой феодальной прослойки
- Унауты, пшитли и оги
Очерк второй. Поселение Черноморского казачьего войска на Кубани
Очерк третий. Торговые связи адыгов с русским населением Прикубанья и экономическое проникновение России на Западный Кавказ
- Русско-адыгейские торговые связи
- Русско-адыгейская торговля и регламентация ее царизмом
Очерк четвертый. Политика царизма по отношению к адыгской феодальной знати
- Адыгское дворянство и царизм в конце XVIII в.
- Военная поддержка адыгских дворян и князей русским правительством
- Вопрос о сословных привилегиях адыгского дворянства.
Очерк пятый. Отношение российской администрации к адыгским рабам, крепостным и их владельцам
- Бегство адыгских рабов и крепостных в Россию и причины этого явления
- Прием беглых адыгских рабов и крепостных русскими властями как средство воздействия на их владельцев.
- Волнения адыгов-казаков Черноморского войска в 1844 — 1846 гг
Очерк шестой. Мюридизм на Западном Кавказе.
- Распространение мюридизма на Западном Кавказе.
- Организация управления подчиненных Магомед-Амином адыгских народов.
- Рост движения адыгского населения против власти Магомед-Амина
Очерк седьмой. Западный Кавказ в годы Крымской войны.
- Организация обороны Западного Кавказа к началу Крымской войны
- Безуспешные попытки поднять адыгов на борьбу против России
- Военные действия на Западном Кавказе в годы Крымской войны
Очерк восьмой. События на Западном Кавказе после окончания Крымской войны (1856—1864 гг.).
- Библиографический список
Научный редактор кандидат исторических наук В. Н. ЧЕРНИКОВ
Рецензенты: профессор, доктор исторических наук Б. М. ДЖИМОВ, профессор Н. В. АНФИМОВ
Автор: Покровский М. В.
Краснодар: Кн. изд-во, 1989.—319 с.
ISBN 5-7561-0147-0
От редакции
Автор настоящих очерков — краснодарский ученый Михаил Владимирович Покровский (1897—1959), доктор исторических наук, прошел интересный, но нелегкий путь от выпускника местного пединститута, затем учителя истории до заведующего кафедрой истории СССР в родном вузе. Более двадцати лет он посвятил разработке вопросов, которые освещаются в настоящей книге. Из месяца в месяц, из года в год, изучая в архивах тысячи пухлых дел (единиц хранения) вековой давности, тщательно восстанавливал факты, проверял и перепроверял их, анализировал связи между ними... Для него адыгские народы в XVIII — XIX вв. прежде всего творцы самобытной, противоречивой и интересной истории. Именно поэтому усилия исследователя сосредоточивались на проникновении в давно минувшую эпоху. Его работа, как и всякое серьезное историческое сочинение, ценна не только обилием познавательного фактологического материала.
Для современного читателя сама увлеченность автора избранной темой, желание глубоко и объективно разобраться в сложнейших политических и социально-экономических перипетиях при искреннем уважении к истории каждого народа — все это, несомненно, может послужит примером воспитания историзма мышления, дефицит которого стал, к сожалению, остро ощущаться в последнее время.
В этой связи заслуживает внимания характерная особенность научного метода М. В. Покровского. Располагая массой противоречивых фактов, он не оказался в плену тенденциозности и умел видеть за многочисленными и разнообразными подробностями бытия общие закономерности исторического прогресса.
В результате продолжительного поиска он пришел к ряду обоснованных выводов, среди них особое звучание имеет заключение о взаимном проникновении культур двух соседних народов — русских и адыгов, которые, несмотря на длительно сохранявшуюся нестабильную обстановку в крае, рядом пахали землю, косили сено, ловили рыбу... Все это порождало возможность социально-политических общений между низами казачьего войска и крестьянской массой адыгского населения. Не случайно участники казачьего бунта в 1797 г. заявили начальству, что если их требования не будут удовлетворены, то они перебьют офицеров, а сами «уйдут к черкесам». С другой стороны, надежды на избавление от тяжелой участи раба, крепостного, свободолюбивые устремления находившихся под угрозой закрепощения крестьян-адыгов были связаны с переходом в пределы России, о чем свидетельствовали потоки горцев-беженцев.
Такая ситуация привела к тому, что к началу 50-х годов XIX в. и военная напряженность, и мюридистское движение на Западном Кавказе стали ослабевать и, казалось бы, должны прекратиться. Но этого не произошло.
М. В. Покровский показывает те силы, которые осложнили положение на Кавказе: вмешательство султанской Турции и ее европейских союзников, официальный курс российского царизма, двусмысленная политика местной дворянско-княжеской и старшинской верхушки, усилия вдохновителей мюридизма...
Из всех вопросов, освещаемых в предлагаемых читателю очерках, наиболее важными оказались те, которые относятся к социальному и экономическому развитию адыгских народов. Автор особо подчеркивает необходимость исследования этого круга проблем, чтобы подойти к правильному пониманию важнейших политических событий, происходивших на Западном Кавказе в первой половине XIX в.
Глубокое проникновение в фактический материал позволило М. В. Покровскому сделать обоснованный вывод: особенности возникновения и становления феодализма у адыгов — одно из наиболее своеобразных явлений истории Кавказа. Феодализм здесь складывался на базе разложения традиционно-общинных отношений, хотя рабство как хозяйственный уклад существовало. Феодализирующаяея знать стремилась распространить свои владельческие права на общинные земли, но ей не удалось законодательно оформить этот захват. Социальная верхушка успела фактически присвоить часть земли, однако юридические права на землю сохранялись за общиной (псухо). Последняя имела черты поземельной (сельской) общины.
Подробно рассматривая, каково было действительное значение различных родовых пережитков и феодальных отношений в общественной жизни адыгов, ученый отмечает, что темпы феодализации, сам процесс развития феодализма у разных адыгейских народов неодинаковы. Они зависели от географических условий, степени устойчивости общины и ее институтов, от расстановки социальных сил и ряда других моментов
Значительное место в очерках занимает история антифеодальной борьбы у адыгов. Автор подробно характеризует положение и взаимоотношения отдельных категорий населения, показывает высокую степень имущественной дифференциации и остроту социальных противоречий, выливавшихся в вооруженные столкновения тфокотлей с дворянской знатью.
Касаясь событий периода Крымской войны, М. В. Покровский на конкретных фактах исследует деятельность различных политических авантюристов, направляемых как из Лондона, так и из Константинополя на Кавказ, раскрывает последствия подобных провокаций/Не остается без внимания историка и такой трудный вопрос, как переселение части горцев в Турцию, хотя автор и не претендует на его полное освещение.
Следует отметить, что восемь очерков, подготовленных М. В. Покровским, отнюдь не являются попыткой изложить всю многогранную историю адыгов. Некоторые вопросы, например материальная и духовная культура адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в., изложены довольно кратко, другие — всего лишь как фон событий либо остались за рамками повествования.
Настоящее издание — посмертное. Поэтому для полного сохранения авторской рукописи проявлена повышенная осторожность. В необходимых случаях произведены сокращения повторов и перегрузок фактическим материалом, уточнения терминов и имен. Однако в большинстве своем личные имена и географические названия даются в том написании, в каком они приводятся автором, очевидно следовавшим за текстом источников. Что же касается принципиальных обобщений и выводов, то они не только не опускались, но и не подвергались каким-либо исправлениям. Поэтому самобытность авторского текста сохранена полностью.
Отличительной особенностью манеры письма М. В. Покровского является весьма удачное введение в ткань повествования материалов из источников, всегда со ссылками на адрес заимствования.
В данном случае мы считаем себя вправе сократить число ссылок, особенно на те источники, которые уже упоминались ранее, но цитаты оставлены. Наличие библиографического списка оправдывает целесообразность такого подхода. Вместе с тем представляется необходимым оставить именно те издания' произведений, которыми пользовался автор, в частности 1-е издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Ссылки на документы государственного архива Краснодарского края также отражают учетные данные, принятые в период работы М. В. Покровского над очерками, завершенными в 1958 г.
Нет сомнения в том, что за последние 25—30 лет советское кавказоведение значительно продвинулось вперед. Об этом убедительно свидетельствуют выход в свет монографий В. К. Гарданова «Общественный строй адыгских народов (XVIII — первая половина XIX в.)» (М.,1967), Б. М. Джимова «Социально-экономическое и политическое положение адыгов в XIX в.» (Майкоп, 1986), издание серии «История народов Северного Кавказа» (М., 1988) и др.
Надеемся, что и настоящие очерки не только помогут массовому читателю лучше узнать историю адыгских народов, но и станут определенным вкладом в советское кавказоведение.
Редакция выражает благодарность В. М. Покровскому, который бережно сохранил и предоставил для опубликования рукопись своего отца.
Введение
Братская дружба между всеми народами, входящими в состав Советского Союза,— одна из основ могущества советского государственного и общественного строя.
Отсюда понятно, как ответственна и важна задача глубокого изучения и правдивого освещения ряда проблем исторического развития народов нашей страны. К числу таких проблем относится социально-экономическая история адыгских народов в XVIII — XIX вв.
Кавказ с его природными богатствами и выгодным географическим положением на рубеже между Европой и Азией являлся в конце
XVIII и XIX в. ареной борьбы между Россией, Турцией и Англией. Кавказский вопрос был частью восточного вопроса, представлявшего тогда одну из актуальных проблем международной политики. Этим и объясняется, в частности, стремление европейской дипломатии вовлечь адыгов в военные конфликты, имевшие место в 20—50-х годах XIX в. на Ближнем и Среднем Востоке.
Отмеченная роль Кавказа в международных отношениях объясняет тот повышенный интерес различных общественных кругов России и западноевропейских стран к населявшим его племенам и народам, который вызывал постоянный поток наблюдателей, путешественников, журналистов, бытописателей, романистов, явных и тайных агентов заинтересованных в Кавказе держав, а также появление обширной литературы, накопившей большой фактический материал и оставившей немало ценных наблюдений.
Подлинно научный теоретический анализ и обобщение собранного конкретного историко-этнографического материала, относящегося к адыгским народам, остались в буржуазной науке нерешенными. И это прежде всего касается вопроса о характере общественных отношений.
Глубокое же изучение их имеет не только общенаучный исторический интерес, но, что особенно важно, позволяет подойти к правильному пониманию многих важнейших политических событий, происходивших на Западном Кавказе в XIX в. Одно это уже в достаточной степени говорит о необходимости и актуальности дальнейшей научной разработки вопросов, связанных с общественным устройством адыгов.
К сожалению, от самих адыгов до нас не дошло письменных источников ввиду отсутствия у них письменности, и изучение их общественного строя, трудное само по себе благодаря своеобразию их общественного развития, усложняется еще более этим обстоятельством. Обычное право адыгов сохранялось только в устной традиции и подверглось позднейшей литературной обработке в качестве материалов по обычному праву.
В силу этого исследователю, помимо использования записок путешественников и наблюдателей (русских и иностранных), записок и рассказов современников (адыгов на русской службе или же русских офицеров — участников Кавказской войны) и т.д., главным образом приходится обращаться к глубокому изучению многочисленных архивных материалов, которые единственно могут пролить свет на состояние этого вопроса.
Со времени образования Старой линии и поселения Черноморского казачьего войска на Кубани появляется ряд материалов и документов, позволяющих с достаточной отчетливостью представить этническую карту северо-западной части Кавказа, а также многие стороны и общественной жизни. К числу этих материалов относятся:
1. Обширная военно-административная переписка, содержащая сведения об отдельных народах, их общественном устройстве, хозяйстве и происходившей у них социальной борьбе.
2. Военно-топографические и этнографические описания Западного Кавказа.
В официальных рапортах и донесениях, докладных записках н отзывах, приказах и отношениях содержится большое количество данных, касающихся самых различных сторон жизни адыгов.
Настоящая работа написана на основании документов, хранящихся в государственном архиве Краснодарского края (ГАКК), Центральном государственном историческом архиве СССР (ЦГИА СССР) и некоторых других.
В данном исследовании освещаются вопросы, связанные с характеристикой уровня развития производительных сил и социальной структурой населения Западного Кавказа, а также и с ходом экономического проникновения России сюда начиная с момента переселения на Кубань Черноморского казачьего войска; политика России и Турции по отношению к различным общественным категориям ады-ских народов, военно-политические события, которые непосредственно предшествовали завоеванию Кавказа царизмом и которые рисуют сложную картину социальных и политических противоречий, развернувшихся у адыгов на последнем этапе борьбы за Кавказ между Россией, западноевропейскими державами и Турцией.
Особое внимание автор отводит вопросам внутренней социальной борьбы, протекавшей у адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в. и ее отражению в области внешнеполитических событий.
Нужно решительно отказаться от недостаточно четкого и формального подхода, игнорирующего общественное расслоение адыгов и затушевывающего остроту социальных противоречий, связанных с феодализацией адыгейского общества. Эти противоречия создавали состояние непрерывных вооруженных столкновений между отдельными социальными группами адыгейского общества, переплетающихся с общими событиями в крае. В происходившей борьбе отдельные социальные группы занимали совершенно различные политические позиции по отношению к складывавшейся международной обстановке, и на них стремились влиять в своих интересах боровшиеся за Кавказ европейские державы и Турция.
Это обстоятельство выразилось не только в том, что дворянство и старшинская знать настойчиво втягивались ими в русло своей политики на Кавказе, но и в том, что свободный крестьянин (тфокотль) также явился объектом напряженного дипломатического внимания и воздействия правительственных кругов Турции, Англии и царской России.
Борьба между ними «за тфокотля» проходила красной нитью через ряд десятилетий Кавказской войны и принимала порой причудливый рисунок мероприятий, доходивших до провозглашения независимости тфокотлей от феодальных посягательств со стороны князей и дворян. Более того, даже несвободное население Северо-Западного Кавказа, рабы и крепостные (унауты и пшитли), тоже было втянуто в орбиту европейской политики и использовалось в сложной политической игре. В частности, царизм, наряду с методами открытой военно-колониальной экспансии, широко применял по отношению к указанным социальным группам населения и демагогию, не останавливаясь перед освобождением беглых рабов и крепостных и возведением части их «в казачье достоинство», в целях политического воздействия на их владельцев.
На основании архивных материалов и иностранных печатных источников можно проследить, каким воздействиям подвергались отдельные социальные группы населения со стороны иностранных правительств.
Изучение материалов, относящихся к экономическим и культурным связям русского населения Северо-Западного Кавказа с адыгами, позволило установить, что, несмотря на военно-колониальный режим царизма со всеми его отрицательными сторонами, здесь уже с конца XVIII в. стал развиваться оживленный торговый обмен, далеко выходивший за рамки официально признававшейся «меновой торговли».
Торговые сношения адыгов с русским населением серьезно препятствовали укреплению позиций Турции и стали предметом конкурентной борьбы, в которой приняла участие и английская торговая компания, основанная в Трапезунде. Английские правящие круги прекрасно понимали опасность экономического проникновения России на Кавказ и примириться с ним не могли, ибо это значило признать ее притязания на Кавказ.
В сложном переплетении военно-политических событий, разыгрывавшихся на Западном Кавказе, с моментами внутренней социальной борьбы, протекавшей у адыгов, отчетливо прослеживается стремление основной массы коренного населения к сближению с русским народом, прорывавшееся через все препоны колониальной политики царизма, интриги Турции и европейских держав. В основе этого явления лежало отмеченное Ф. Энгельсом, несмотря на колониальный характер политики русского самодержавия на Кавказе, общее цивилизующее влияние России «для Черного и Каспийского морей».
Н. Г. Чернышевский, полемизируя с английскими рецензентами, обрушившимися на книгу Гакстгаузена «Закавказье, очерки народов и племен между Черным и Каспийским морями», автор которой проводил мысль о положительном влиянии России на народы Кавказа, писал в № 7 «Современника» за 1854 г.: «Автор знаменитого путешествия, коротко узнав Россию, полюбил ее, и его «Закавказье» проникнуто симпатией к России и к русскому владычеству за Кавказом. Английские рецензенты, конечно, называют это если не пристрастием, то предубеждением. В самом деле, барон Гакстгаузен до того предубежден, что думает, будто бы, «поддерживая гражданский порядок в закавказских областях и цивилизуя их, русские пролагают путь цивилизации и в прилежащие азиатские страны». Сколько мы можем быть судьями в собственном деле, нам кажется, что эта истина довольно простая; если память нас не обманывает, в ней даже и не думали сомневаться до начала войны ни англичане, ни французы».
Постоянно общаясь с русским населением, адыги в свою очередь (оказывали влияние на его быт. Это выразилось в заимствовании казаками адыгского костюма (черкески, бурки, бешметы, папахи, ноговицы), а также предметов кавалерийского снаряжения и конской упряжи. Адыгские арбы широко вошли в быт станичного населения Черномории и использовались им в распутицу как главный вид транспорта.
Создание так называемой черноморской породы лошадей, получившей широкую известность на русских и иностранных рынках (во время франко-прусской войны 1870 г. вся прусская ар-артиллерия обслуживалась лошадьми этой породы), было связано со скрещиванием адыгской лошади с лошадьми, приведенными казаками из Запорожья.
Сообщение по р. Кубани производилось почти исключительно на лодках, изготовлявшихся адыгейскими мастерами, жившими в прикубанских шапсугских и бжедухских аулах. Эти мастера делали не только небольшие лодки, применявшиеся для переправы через реки и для рыбной ловли, но изготовляли и более крупные суда, поднимавшие по нескольку сотен пудов груза и совершавшие плавания по всему среднему и нижнему течению р. Кубани.
Высокий уровень адыгского садоводства оказал свое влияние на развитие садов в Черномории, где широко культивировались сорта адыгских яблонь, вишен и груш. Адыги охотно привозили саженцы плодовых деревьев на русские базары и ярмарки, продавая их по дешевой цене.
В области пчеловодства казаки, а затем и «иногородние промышленники» также почти целиком следовали приемам, применяемым адыгами в уходе за пчелами, а в 50-х годах XIX в. крупные пасеки, поставляющие мед в Ростов и Ставрополь, обслуживались исключительно трудом наемных адыгов.
Сближение адыгского населения с русским нашло свое выражение и еще в целом ряде моментов, отмеченных в настоящей работе.
Насколько велика была тяга народных масс к прекращению войны с Россией и установлению мирных отношений, можно судить по тому, что ни во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг., ни во время Крымской войны 1853—1856 гг. зарубежной дипломатии так и не удалось поднять их на борьбу против России.
В особенности интересны события, развернувшиеся на Западном Кавказе во время Крымской войны. В критический момент борьбы враждебная России коалиция пустила в ход все имевшиеся в ее распоряжении средства для привлечения на свою сторону адыгов Ей удалось заручиться поддержкой части протурецки настроенной верхушки, но народные массы ей в этой поддержке решительно отказали. Даже предпринятый в конце февраля 1855 г. с целью вывести из состояния политической пассивности тфокотлей штурм Новороссийска союзной эскадрой не достиг желаемых результатов, и официальные документы лондонского адмиралтейства отражают глубокое разочарование по этому поводу английского командования (9, 100—102). Вопросам чисто военной истории в работе уделено сравнительно немного места, поскольку имеется достаточное количество трудов, подробнейшим образом освещающих внешнюю сторону Кавказской войны. Не ставя поэтому перед собой такой задачи, мы сосредоточили внимание в этой области лишь на тех событиях, которые дают некоторые новые данные относительно агрессивных планов иностранных держав на Кавказе.
Очерк первый. Социально-экономическое положение адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в
Территория
Западная часть Кавказского хребта с прилегающей к нему полосой предгорий, спускающихся к Кубанской низменности, в XVIII в. была занята адыгейскими народами. Ко времени продвижения государственной границы России к р. Кубани они прошли длительный путь исторического развития. На страницах русских летописей адыги впервые упоминаются под именем касогов при описании событий 965 г. Однако более или менее ясные сведения о них относятся лишь к концу XVIII — началу XIX в.
Отдельные адыгские народы расселялись за р. Кубанью следующим образом. Вдоль Главного Кавказского хребта и по берегу Черного моря в общем направлении с северо-запада на юго-восток располагались земли натухайцев. Пo своей форме они напоминали большой треугольник, основание которого упиралось в р. Кубань, а вершина выходила на Черноморское побережье, к югу от Геленджика. В этом треугольнике, кроме основного нахухайского населения, от Цемесской бухты до р. Пшады жили шапсуги, называемые в официальной переписке «шапсугскими натухайцами», а в окрестностях Анапы -небольшое племя хейгаков. (К началу XIX в. они расселились по натухаиским аулам.)
//Термины: адыгские (адыгейские) народы, адыги, горцы, черкесы — употребляются в настоящей работе в качестве синонимов. Термин племена, встречающийся в архивных и литературных источниках, применительно к рассматриваемому периоду соответствует описательному понятию народы и научному — субэтнические группы адыгейского народа (абадзехи, бесленеевцы, бжедухи, хатукаевцы, шапсуги и т. д.).
К востоку от натухайдев обитали шапсуги, делившиеся на больших и малых (так называемые Большой Шапсуг и Малый Шапсуг. Большой Шапсуг был расположен к северу от Главного Кавказского хребта, меж ду реками Адагумом и Афипсом, а Малый — к югу от него и выходил к Черному морю. С востока он был ограничен р. Шахе, за которой жили убыхи и с запада р. Джубгой, отделявшей его от натухайцев. Шапсугская территория была значительно больше натухайской, но она имела много труднодоступных и малонаселенных горных пространств.
На восток от Большого Шапсуга, в глубине Кавказских гор и на их северном склоне, находилась область самого многочисленного адыгейского народа- абадзехов. С севера ее отделяли от р. Кубани земли бжедухов, с востока ее границей была р. Белая, а с Юга она упиралась в Главный Кавказский хребет, за которым лежали владения шапсугов и убыхов. Таким образом, абадзехи занимали значительную часть территории Западного Кавказа, от бассейна р.Афипс до бассейна Лабы. Наиболее густо ими были заселены долины рек_Вундук Курджипс, Пшачи, Пшиш, Псекупс. Здесь находились селения главных абадзехских обществ (Туба, Темдаши, Даурхабль, Дженгетхабль, Гатюкохабль, Нежукохабль и Тфишебс). В официальной переписке русских военных властей абадзехи обычно делились на нагорных, или дальних, и на равнинных, или ближних.
Между северной границей абадзехской территории и р. Кубанью располагались бжедухи, подразделявшиеся на хамышеевцев, черченеевцев (керкенеевцев) и жене-евцев (жанеевцев). По народным преданиям, хамышеевцы обитали вначале на р. Белой среди абадзехов, но затем были вытеснены ими в верховья р. Псекупс, где жили их соплеменники — черченеевцы. Потом и те и другие под давлением абадзехов передвинулись еще ближе к р. Кубани: хамышеевцы поселились между реками Сулс и Псекупс, а черченеевцы — между реками Псекупс и Пшиш. Большая же часть женеевцев вскоре слилась с хамышеевцами и черченеевцами, а часть перешла на Каракубанский остров, в пределы Черномории.
Непрерывная межплеменная борьба привела к тому, что к 30-м годам XIX в. численность бжедухов значительно уменьшилась. По имеющимся архивным данным, к абадзехам и шапсугам отошло 1200 только одних хамышеевских «простых дворов, плативших дань» хамышеевским князьям. «Убито князей разновременно 4, дворян 40, простых более 1000», и свыше «900 душ мужчин и женщин с их имуществами» было взято в плен.
К востоку от черченеевцев, между реками Пшиш и Белой, обитали хатукаевцы. Еще восточнее, между нижним течением рек Белой и Лабы, находилась область, занятая темиргоевцами или "чемгуй". Несколько дальше в направлении к юго-востоку жили их соседи — егеpуxаевцы, махошевцы и мамхеги (мамхеговцы), которые считались родственными темиргоевцам и часто упоминались в русской официальной переписке под общим названием «чемгуй» или «кемгой». В XIX в. темиргоевцы, егерухаевцы и махошевцы объединились под властью темиргоевских князей из рода Болотоковых. Значительным адыгейским народом на Западном Кавказе были бесленеевцы. Их владения граничили на северо-западе с территорией махошевцев, на юго-востоке доходили до р. Лабы и ее притока р. Ходзь, а на востоке — до р. Уруп. Среди бесленеевцев жили также так называемые беглые кабардинцы и небольшое число ногайцев.
Таким образом, полоса земель, занятая адыгскими народами, тянулась от берега Черного моря на западе до р. Уруп на востоке. К ней примыкали область Кабарды и территория абазин.
Многочисленные источники, описания и известия дают самые разноречивые сведения о численности отдельных адыгских народов и всего коренного населения Западного Кавказа в целом. К. Ф. Сталь, например, определял общее число темиргоевцев и егерухаевцев всего в 8 тысяч человек, а Г. В. Новицкий утверждал, что одних только темиргоевцев было 80 тысяч. Численность абадзехов, по К. Ф. Сталю, достигала 40-50 тысяч человек, а Г. В. Новицкий насчитывал их 260 тысяч. Общее число шапсугов К. Ф. Сталь определял в 160 тысяч душ обоего пола, а Новицкий — в 300 тысяч; М. И. Венюков же считал, что их было только 90 тысяч, и т. д.
Сведения, сообщаемые адыгскими князьями и дворянами о численности подвластного им населения, были еще более разноречивы. Сопоставляя имеющиеся данные, можно лишь приблизительно установить общую численность адыгского населения Западного Кавказа. К середине XIX в. она составляла примерно 700-750 тысяч человек!
Занятия
Природно-географические условия Западного Кавказа весьма разнообразны. В прошлом это оказало значительное влияние на хозяйственную деятельность местного населения и определило ее специфику в отдельных районах.
В низменной прикубанской полосе, отличающейся своими плодородными почвами, очень рано развилось оседлое земледелие. Автору настоящей работы неоднократно удавалось находить в культурном слое древних меото-сарматских городищ и в могильниках, датируемых IV в. до н. э. — II—III вв. н. э., обуглившиеся зерна пшеницы, проса и других культурных растений. Здесь же были обнаружены каменные ручные жернова, железные серпы и другие земледельческие орудия. Есть все основания утверждать, что у отдаленных предков адыгов уже в I тысячелетии до н. э. земледелие было достаточно широко развито, а дальнейшее поступательное развитие его наблюдалось и в средние века.
Особенно ярко иллюстрируют эту мысль находки, сделанные летом 1941 г. при постройке Шапсугского водохранилища на левом берегу р. Афипс, близ г. Краснодара. При сооружении дамбы водохранилища были вскрыты древний могильник с грунтовыми и курганными погребениями XIII—XV вв. и территория прилегающего к нему селища, относящегося к тому же времени. Среди прочих предметов были найдены железные серпы и лемеха для плугов, каменные жернова, кетмени для раскорчевки кустарников и другие орудия, свидетельствующие о развитом пашенном земледелии. Кроме того, здесь же обнаружен ряд вещей, говорящих о том, что местное население занималось скотоводством и ремеслом (кости домашних животных, ножницы для стрижки овец, кузнечные молоты, щипцы и т. д.).
Такие же находки были найдены и при раскопках других средневековых поселений Прикубанья.
Не останавливаясь на ряде литературных источников, укажем, что существование у адыгов развитого земледелия подтверждается для более позднего времени и русскими официальными документами. Из них . особенно интересны:
1) ордер А. Головатого от 16 декабря 1792 г., предписывавший начальнику Таманского отряда Савве Белому организовать для переселенцев Черноморского казачьего войска покупку у горцев семян злаков; 2) донесение атамана Черноморского казачьего войска Котляревского императору Павлу I, в котором сообщалось, что ввиду острого недостатка хлеба во вновь основанном войске пришлось распорядиться снабжать «состоящих на пограничной страже казаков вымениваемым у закубанцев за соль хлебом».
Учитывая все сказанное, следует решительно отказаться от довольно распространенного взгляда, что земледелие у адыгов в XVII—XVIII вв. якобы имело крайне примитивный характер. С. М. Броневский, характеризуя хозяйственную жизнь адыгов в начале XIX в., писал: «Сельское хозяйство разделяется у них на три главнейшие отрасли: земледелие, конные заводы и скотоводство, заключающее рогатый скот и овец. Черкесы, пашут землю плугами наподобие украинских, в которые впрягают несколько пар быков. Больше всякого хлеба сеют просо, потом турецкую пшеничку (кукурузу), яровую пшеницу, полбу и ячмень. Жнут хлеб обыкновенными серпами; молотят хлеб балбами, то есть топчут и перетирают колосья посредством лошадей или быков, припряженных к доске, на которую наваливают тягость, точно так, как в Грузии и Ширване. Перетертую солому, вместе с мякиной и частью зерен, дают в корм лошадям, а чистый хлеб прячут в ямы. В огородах сеют овощи: морковь, свеклу, капусту, лук, тыквы, арбузы, и сверх того у всякого в огороде есть табачная гряда». Не может быть сомнений в том, что описанный С. М. Броневским уровень развития земледелия был достигнут на базе старой местной земледельческой культуры.
Роль земледелия в жизни адыгов нашла отражение и в их языческом пантеоне. Хан-Гирей сообщал, что в 40-е годы XIX в. изображение, олицетворявшее божество земледелия Созерешь, в виде самшитового бревна с отходящими от него семью сучьями, имелось в каждой семье и хранилось в хлебном амбаре. После уборки урожая, в так называемую созерешеву ночь, совпадавшую с христианским праздником рождества, изображение Созерешь переносили из амбара в дом. Прилепив к сучьям восковые свечи и подвесив к нему пирожки и куски сыра, его ставили на подушки и совершали молитвы.
Совершенно естественно, конечно, что горная полоса Западного Кавказа была менее удобна для пашенного земледелия, чем Прикубанская низменность. Поэтому. скотоводство, огородничество и садоводство играли здесь значительно большую роль, чем хлебопашество. Жители гор в обмен на хлеб отдавали обитателям равнин скот и ремесленные изделия. Особенно важным было значение этого обмена для убыхов.
Скотоводство адыгов также имело довольно развитый характер вопреки распространенному в исторической литературе мнению о его крайней отсталости. Многие авторы утверждали, что в силу этой отсталости скот даже зимой находился на подножном корму. В действительности. зимнее время он спускался с горных пастбищ в леса или камышовые заросли Прикубанской равнины представлявшие прекрасное убежище от непогоды и ветров Здесь животных кормили припасенным заранее сеном. Сколько его заготовлялось на зиму для этой цели, можно судить по тому, что во время зимней экспедиции 1847 г. в земли абадзехов генерал Ковалевский умудрился сжечь там более миллиона пудов сена.
Широкому развитию скотоводства содействовало обилие лугов. На богатых сенокосах и пастбищах паслись огромные отары баранов, стада крупного рогатого скота и табуны лошадей.
Косвенно о размерах скотоводства и его характере можно получить представление по данным М. Пейсонеля, который сообщал, что горцы ежегодно забивали до 500 тысяч баранов и продавали до 200 тысяч бурок. Сведения об экспорте в конце XVIII в. показывают, что значительное место во внешней торговле адыгов занимали кожи, немытая шерсть, шкуры, различные изделия из шерсти.
У скотоводов особенно ярко проявлялись черты и пережитки родового строя. Например, осенью некоторые семьи выгоняли в священную рощу одну из своих коров, предназначенную в жертву богу Ахину, привязав к ее рогам куски хлеба и сыра. Окрестные жители сопровождали жертвенное животное, которое называлось самошествующей ахиновой коровой, и затем резали его. Ахин — покровитель стад рогатого скота — явно принадлежал к старой языческой религии с ее культом общинных священных мест, рощ и деревьев, с общеаульными молениями и жертвоприношениями. Характерно, что на месте закалывания животного с него не снимали кожу, а там, где ее снимали, не варили мяса; где его варили, там не ели, а совершали все это, .поочередно переходя с одного места на другое. Возможно, что в этих особенностях жертвенного ритуала проявлялись черты древнего кочевого быта скотоводов. Впоследствии они приобрели характер религиозного обряда, сопровождавшегося пением специальных молитвенных песен.
Следует, однако, оговориться, что в. рассматриваемый нами период времени (конец XVIII — первая половина XIX в.) у скотоводов резко возрастает имущественная дифференциация. Большое количество скота сосредоточивали в своих руках князья, дворяне, старшины и многие зажиточные общинники — тфокотли. Труд рабов и крепостных довольно широко применялся во время сенокоса и заготовки кормов для скота. С конца XVIII в. крестьяне стали проявлять сильное недовольство захватом лучших пастбищ местными феодалами.
К концу XVIII в. большое значение приобрели конские заводы, принадлежавшие князьям и богатым стар-шинам. По сведениям С. М. Броневского, многие из них поставляли лошадей различным адыгейским народам и даже, как это ни покажется странным, полкам русской регулярной кавалерии. Каждый завод имел особое тавро, которым клеймил своих лошадей. За подделку его виновные подвергались суровому наказанию. Для улучшения конского поголовья владельцы заводов покупали в Турции арабских жеребцов. Особенной известностью пользовались термиргоевские лошади, которые продавались не только на Кавказе, но и вывозились во внутренние районы России.
Земледелие и скотоводство не были единственным хозяйственным занятием адыгов. Большое развитие получило у них птицеводство, а также плодоводство и виноградарство. Обилие фруктовых садов, особенно в приморской части, всегда обращало на себя внимание иностранных путешественников и наблюдателей, например Белля, Дюбуа де Монпере, Спенсера и др.
Не менее успешно занимались адыги и пчеловодством. Они владели «знатными пчельниками» и вывозили много меда и воска на русские рынки и за границу. «В Ачипсу,— писал Ф. Ф. Торнау,— имеется отменный мед, добываемый от горных пчел, гнездящихся в расщелинах скал. Этот мед очень душист, бел, тверд, почти как песочный сахар, и весьма дорого ценится турками, от которых медовеевцы выменивают необходимые ткани исключительно на мед, воск и на девушек», О развитии пчеловодства у адыгов свидетельствует тот факт, что существовавшие в 60-х годах XIX в на Северо-Западном Кавказе крупные пчельники, принадлежавшие русским предпринимателям, обслуживались, как правило, наемными рабочими из числа адыгов.
Иностранные корабли ежегодно вывозили с кавказского побережья Черного моря большое количество тисового и самшитового дерева и строевой лес. Самшит адыги обменивали на соль (пуд за пуд), в которой они испытывали острую нужду.
Археологические данные говорят о том, что уже в XIII—XV вв. на адыгской территории изготовлялись изделия из железа (лемеха, топоры, кирки, ножницы, кузнечные молоты и т. д.). В XVIII—XIX вв. эта отрасль ремесленной деятельности получает такое развитие, что начинает ощущать нехватку сырья.
Одним из наиболее сложных для русских властей всегда был вопрос о пропуске за Кубань железа. Как правило, горцы, «приносившие покорность», настойчиво требовали, чтобы железо провозилось к ним свободно. Боясь, что оно будет использовано для производства оружия, царская администрация пыталась регламентировать нормы железного экспорта, скрупулезно определяя потребность в железе для изготовления сельскохозяйственных орудий. На этой почве возникало бесконечное количество недоразумений и противоречивших друг другу распоряжений.
В XVIII—XIX вв. довольно многочисленную группу адыгского населения составляли мастера кузнечного дела. Наряду с ними особое место занимали мастера-оружейники, изготовлявшие холодное оружие в серебряной оправе.
Женщины делали позументы для поясов и для обшивки праздничной одежды мужчин, ткали сукна для мужской одежды и тонкие шерстяные материи для себя. По свидетельству Ф. Ф. Торнау, который наблюдал быт адыгов, когда находился у них в плену, черкешенки отличались замечательным искусством во всех этих работах, обнаруживая «хороший вкус и отличное практическое приспособление».
Во многих аулах ремесленники изготовляли бурки, седла, ружейные чехлы, обувь, арбы, варили мыло. «Козаки,— писал С. М. Броневский,— весьма уважают черкесские седла и стараются снабжать себя оными в рассуждении отменной легкости и ловкости деревянных арчаков и прочности кожаных тебеньков, служащих вместо чепрака. Черкесы приготовляют также порох и всякой для себя делает селитру из быльника (бурьяна), в июле собираемого, который, очистив от листьев и отростков, один стебель сожигают».
По подсчетам О. В. Маркграфа, у коренных жителей Северного Кавказа насчитывалось 32 кустарных промысла: скорняжный, шорный, сапожный, токарный, колесный, арбяной, производство бурок, сукон, красок, плетений из прутьев, циновок, соломенных корзин, мыла и др.
И. Головин, автор очерка о Кавказе, написанного на английском языке, отмечал, что из всех кавказских народов адыги были самыми искусными оружейниками. Особенно высоко ценились их кинжалы [6, 112].
Однако лишь кузнечное дело, изготовление оружия и ювелирное искусство поднялись до положения настоящего ремесла, то есть производства изделий на заказ и на продажу. Все остальные виды ремесленной деятельности были тесно связаны с сельским хозяйством и скотоводством и ориентировались в основном на удовлетворение потребностей семьи.
Анализ экономики адыгов в XVIII — первой половине XIX в. приводит к заключению, что доминирующая роль в ней в то время все еще принадлежала натуральному хозяйству, но его уже подтачивали и разрушали развивающиеся товарно-денежные отношения.
В толщу экономической жизни адыгов с течением времени все больше и больше проникала торговля, в которую втягивалась масса тфокотлей, старшин и дворян (о торговле см. очерк III).
Общественный строй
Уже Ксаверио Главани, автор первой половины XVIII в., отметил наличие элементов феодализма у народов Западного Кавказа. Он рассказывал, например, об адыгских беях, совершенно самостоятельных в своих владениях, хотя они почти всегда находились под покровительством татарского хана.
Юлий Клапрот, выпустивший в 1812 г. книгу о своем путешествии по Кавказу и Грузии, более подробно остановился на общественном устройстве адыгов. Он отмечал, что они разделяются на пять «классов»: к первому он отнес князей, ко второму — ворков (уздени, или дворяне), к третьему княжеских и узденьских вольноотпущенников, обязанных нести вoeнную службу в пользу своих бывших господ, к четвертому—вольноотпущенников этих «новых дворян» и к пятому — крепостных которых он ошибочно называл "тхокотлями". Тфокотлей Клапрот, в свою очередь, подразделял на занимающихся земледелием и на тех, которые обслуживают высшие классы [7,565]. Далее он сообщал, что к каждой княжеской ветви у адыгов принадлежат различные семьи узденей, смотрящие на унаследованных от предков крестьян как на свою собственность, потому что последним был запрещен переход от одного владельца к другому. На крестьянах лежали определенные повинности, которые, однако, не могли быть расширяемы до бесконечности, ибо если «уздень будет слишком жать крестьянина, то он может его вовсе лишиться». Ю. Клапрот привел еще целый ряд небезынтересных фактов: так, например, он писал, что как князья, так и дворяне имеют власть над жизнью и смертью своих крепостных и по своему желанию могут продавать домашних слуг. Что же касается крепостных, занимавшихся земледелием, то они не могли быть проданы порознь. Рисуя быт и нравы дворянско-княжеской верхушки, Ю. Клапрот говорил также об обязанностях узденей по отношению к своим князьям. Он отмечал, что князь имеет «дружину», которой предводительствует на войне, и совершает «со своими рыцарями и вооруженными слугами нападения и разбойнические походы».
Описание Ю. Клапрота содержит отдельные интересные и важные подробности об общественном строе так называемых «аристократических черкесских племен». однако оно страдает поверхностностью и не дает достаточно четкой картины их социальной структуры и положения зависимого населения. Кроме того. Ю. Клапрот допустил в своем труде терминологическую нечеткость:
1) употребляя термин «фокотль», он смешал две категории населения: тфокотлей как таковых, то есть свободных общинников, которые несли натуральные повинности в пользу князя, и крепостных - пшитлей.
2) термин «уздень» объединяет у него и первостепенных дворян, в пользу которых несли повинности тфокотли, и мелкое невладетельное дворянство, имевшее только крепостных;
3) для характеристики общественного строя адыгских народов Ю. Клапрот применял маловыразительный термин «республиканско-аристократический».
Интересные соображения о социальных отношениях населения Западного Кавказа были высказаны в 20-х годах XIX в. С. М. Броневским. Рассматривая воспитание, образ жизни и военный быт князей и дворян, он подчеркивал, что «простой народ воспитывается в родительском доме и приуготовляется более к сельским работам, нежели к военному ремеслу», и что «на сем отчуждении оного от военного воспитания основывается политическая безопасность князей и порабощение крестьян». Это наблюдение С. М. Броневского говорит о растущем обособлении адыгского дворянства от патриархальной демократии в лице тфокотлей и о различных перспективах их дальнейшего развития.
Дюбуа де Монпере в своем сочинении «Путешествие вокруг Кавказа по Черкесии и Абхазии, Мингрелии, Грузии, Армении и Крыму», вышедшем в 1841 г. в Париже, сообщил ряд важных сведений об обязанностях адыгских крепостных крестьян. Довольно ярко обрисовал он также и быт дворянства, особенно грабительские набеги, совершавшиеся князьями и дворянами [5,114].
Гораздо более четкую характеристику социальных отношений, и в частности описание повинностей тфокотлей, содержат статьи Хан-Гирея, относящиеся к 40-м годам XIX в. Будучи бжедухом по происхождению, он прекрасно знал быт адыгов, и поэтому его работы представляют значительный интерес и ценность. В Особенности важна статья «Князь Пшьской Аходягоко», где он подчеркивал, что «самый многочисленный класс народа в, бжедугском племени составляют... так называемые тльфекотлы», которые, по его словам, занимали положение вольных землевладельцев. Однако, как видно из его дальнейшего повествования, они находились в довольно сильной зависимости от своей дворянско-княжеской верхушки.
Собственно крепостных, или пшитлей, Хан-Гирей делит на два разряда: 1) ведущие собственное хозяйство (ог) и 2) не имеющие самостоятельного хозяйства и живущие во дворе своего господина (дехефстейт). Последние «работали только, по мере возможности, на владельца и кормились за его счет». По этой причине термин «дехефстейт» Хан-Гирей по-русски переводил как дворовые. Характеризуя положение бжедухских крепостных, он указывал, что они пользовались правом собственности, гарантировавшимся поручительством, и что поручительство посторонних лиц (кодог) якобы надежно охраняло их безопасность, жизнь и собственность от посягательств владельцев. Но в дальнейшем изложении, явно противореча этому утверждению, он вынужден был признать, что в действительности дело обстояло иначе: у бжедухов существовал неограниченный произвол князей и дворян. Они захватывали крестьянский скот, а иногда и людей под предлогом «домашних надобностей», взыскивали штрафы за малейшее, подчас мнимое, оскорбление княжеского достоинства и т. д. Хан-Гирей подчеркивал, что князья и дворяне с очень давнего времени являлись «господствующим сословием».
В 1910 г. в Кавказском сборнике сын последнего владетельного бжедухского князя Тархана Хаджимукова опубликовал статью. В ней он с сожалением вспоминал те «добрые старые времена», когда «звание князя было столь священно в понятиях горцев, что каждый из них нравственно обязывался защищать своего владельца, жертвуя не только своим имуществом, но и самою жизнью», и не позволяло бжедухам уподобляться «диким шапсугам и абадзехам». Хаджимуков рассказывал, что, когда бжедухский князь совершал выезд из своего аула, его сопровождали уорки, уздени и подвластные им чагары — по одному от каждого дома. Чагары пo определению, были переходной ступенью между дворянством и простым народом. Они делились на княжеских и дворянских, из которых первые пользовались правом отойти от своих владельцев во всякое время, вторые же были лишены этого права. Оба разряда чагаров «наравне с черным народом» считались «податными людьми». .
Если отвлечься от явно идиллического тона статьи и сопоставить ее с сочинениями Хан-Гирея, то она дает основание думать, что феодальные отношения у бжедухов были развиты в большей степени, чем у других народов Северо-Западного Кавказа.
Не останавливаясь на работах других авторов: И. Родожицкого, М. Ведениктова, Н. Колюбакина, которые также указывали на черты феодализма в общественном строе адыгов, заметим, что весьма важным было обнаружение у них родовых институтов. Это обстоятельство в исторической литературе обычно связывалось с именем английского политического агента Белля, действовавшего в 40-х годах XIX в.
Однако, как указывал М. О. Косвен, в те же годы русские исследователи В. И. Голенищев-Кутузов и О. И. Константинов совершенно самостоятельно установили, что у адыгов существуют родовые группы. Что же касается Белля, то его интерес к вопросу о социальном устройстве адыгов определялся, конечно, чисто практическими соображениями политического разведчика. Ведя среди них работу, направленную на организацию борьбы против России, он, естественно, должен был ознакомиться с отдельными прослойками адыгского общества и определить их роль в этой будущей борьбе.
Значительным шагом вперед в изучении общественного строя адыгов были исследования К. Ф. Сталя, проведенные в середине XIX столетия. Он разделил адыгские племена на «аристократические» и«демократические», положив в основу этого деления степень преобладания у них черт общинно-родового или же феодального устройства.. Подчеркивая роль адыгейской общины, К. Ф. Сталь писал: «Община есть первая ступень политического быта каждого народа. Община является первоначально самобытной единицей, в которой семейства или роды все одного происхождения и имеют одни и те же интересы. Община, по мере увеличения своего, раздроблялась на большее или меньшее число общин, которые тотчас отделялись друг от друга и образовывали каждая самостоятельное целое. Устройство общины или колена есть первое политическое устройство человека». Ниже он добавлял: «В этом-то первобытном коленном устройстве остались с незапамятных времен кавказские горские народы, и каждый из них разделен на маленькие независимые общества». Нет нужды говорить, насколько важным было для своего времени это высказывание К. Ф. Сталя, ибо, как указал М. О. Косвен, совершенно ясно, что, несмотря на известную нечеткость терминологии, присущей той эпохе, «коленное устройство» можно читать как «родовое устройство».
Нельзя не остановиться также на исследованиях Н. И. Карлгофа, который наряду с чертами феодализма обнаружил у ряда адыгских племен институты родового строя. Он сделал необычайно ценный вывод о том, что наблюдавшееся им общественное устройство не составляет исключительной особенности только их самих, а свойственно «всем младенчествующим народам», и подчеркивал, что изучение его «может пояснить темные и загадочные стороны в истории первых времен образования государств».
Несомненно, добавим мы, что если бы работы Н. И. Карлгофа, К. Ф. Сталя и их предшественников были известны широкой научной европейской общественности, недооценивавшей значение материалов о Кавказе в изучении эволюции человеческого общества, то они сыграли бы большую роль на том этапе развития исторической науки, когда шла борьба между сторонниками и противниками общинной теории.
Адыгейское общество, по мнению Н. И. Карлгофа, было основано на следующих началах: 1) семейство; 2) право собственности; 3) право употребления оружия для всякого свободного человека; 4) родовые союзы со взаимною обязанностью всех и каждого защищать друг от друга, мстить за смерть, оскорбление и нарушение прав собственности всем за каждого и ответствовать перед чужими родовыми союзами за всех своих.
Таким образом, уже в первой половине XIX в русское кавказоведение, несмотря на ограниченные возможности для исследования и наблюдений, обусловленные военно-политической обстановкой на Кавказе и уровнем тогдашней науки, накопило достаточный материал для того, чтобы говорить о сложности общественного строя адыгских народов, о сочетании и переплетении феодальных и родовых отношений.
Несколько позже А. П. Берже дал общее этнографо-социологическое описание племен Кавказа, коснувшись в нем и адыгов. Указав, что «управление у черкесов было чисто феодальное», он отметил одинаковые черты социального устройства. По его утверждению, общество делилось на князей (пши), дворян и узденей (уорков), свободных, подвластных и рабов. Берже сообщил также, что у натухайцев и шапсугов князья отсутствовали, а были только дворяне.
Принадлежащий Н. Ф. Дубровину капитальный труд «История войны и владычества русских на Кавказе», в котором использованы многочисленные материалы и источники, содержит очерк об адыгских народах. В нем имеются сведения по экономике, этнографии и социальному строю адыгов. Этот последний он определял довольно своеобразно: «Организм черкесского общества, по большей части, имел характер чисто аристократический. У черкесов были князья (пши), вуорки (дворяне), оги (среднее сословие, состоявшее в зависимости от покровителей); пшитли (логанопуты) и унауты (рабы) — разностепенное сословие крестьян и дворовые люди. Кабардинцы, бзедухи, хатюкайцы, темиргоевцы и бесленеевцы имели князей. Абадзехи, шапсуги, натухажцы и убыхи не имели этого сословия; но дворяне, крестьяне и рабы существовали у всех этих народов».
Немало интересных и важных материалов о социальной структуре адыгского общества заключает в себе собрание адатов кавказских горцев, изданное Ф. И. Леон-товичем, в котором он использовал ряд данных, сообщаемых К.Ф. Сталем в его исследовании «Этнографический очерк черкесского народа», сведения об обычаях и органах народного управления адыгов, собранные Кучеровым, и др.
Следует заметить, что значительная часть историков Кавказа не занималась подробным анализом положения черкесских рабов, крепостных и свободных общинников (тфокотлей). Указывая, к примеру, что основной массой адыгейского населения были тфокотли, они, как правило, ограничивались лишь общей характеристикой условий их жизни и не учитывали тех изменений, какие происходили в ходе борьбы тфокотлей с дворянством.
Особый интерес представляет небольшой очерк под названием «На холме», напечатанный в ноябрьской книжке «Русского вестника» за 1861 г. Автор его, Каламбий, адыгский дворянин, офицер русской службы, получивший воспитание в кадетском корпусе, потерпел, по-видимому, какую-то серьезную жизненную неудачу, которая заставила его оставить службу в Петербурге и возвратиться на родину. Довольно широкий кругозор, соединенный с известным, хотя и поверхностным, интересом к передовым идеям своего времени (он сам не без сарказма писал, что довольно долго дышал европейским воздухом и, следовательно, «нахватал бездну гуманных идей»), дал ему возможность нарисовать единственный в своем роде образец правдивой картины общественной жизни адыгского аула в середине XIX в. .
Каламбий жестоко иронизировал по поводу того, что представителей черкесского дворянства не занимало ничто, кроме, разговора об оружии, лошадях, пустого хвастовства в кунацкой своими подвигами и праздной болтовни с соседями во время бесконечных поездок по гостям. Однако ирония сочеталась с тревогой за будущее этого дворянства, и с сознанием собственного бессилия перед лицом развивающихся исторических событий. Для него были совершенно ясны историческая обреченность военно-феодальной знати и неспособность ее сыграть самостоятельную политическую роль в той сложной обстанбвке, какая создалась к 60-м годам XIX в. на Кавказе. Каламбий .не замалчивал и резких противоречий между крестьянской массой и имущим классом, но в то же время не мог отказаться от барски пренебрежительного и настороженного отношения к «черни».
Рассказывая о крестьянских сходках, происходивших на холме близ аула, Каламбий писал: «У заседателей холма свои особенные наклонности, свой образ мыслей, свой взгляд на вещи, свои идеалы, прямо противоположные стремлениям, воззрениям и идеалам кунацкой... Даже наружность холмовников отличается каким-то своеобразным отпечатком... повергающим меня в неразрешимое сомнение касательно происхождения их из той же самой глины, из которой с таким тщанием вылеплены обитатели кунацких. Эти широкие плечи, толстые короткие шеи, бычачьи ноги, эти ручищи, похожие скорей на медвежьи лапы, чем на человеческие руки, эти крупные черты лица, вырубленные точно топором,— какая непроходимая бездна между ними и изящными фигурами благородной части нашего аула!.. Нрав имеют они весьма суровый, необщительный, обдающий холодом всякого, кто подступает к ним из другой сферы... но если заговорят, то из уст их исходят слова, отравленные самою ядовитою желчью. Едкий сарказм их обладает необычайною силой задевать за самые живые струны человеческой души; шутка их просто невыносима; она проникает до мозга костей. У этих людей, можно сказать, нет ничего святого в мире, ничего такого, перед чем бы они благоговели. Самая покорность и молчание дышат неумолимою критикой против тех, кому они покоряются и перед кем молчат. Вся желчная ирония их языка направлена исключительно на сословие, обитающее в кунацкой; на него они смотрят с предубеждением, как на что-то весьма негодное и непрочное, чье существование находится в их мозолистых руках».
Немудрено, что в такой накаленной обстановке нашему герою из адыге, хотя и не без ущерба вырвавшемуся из административно-полицейского водоворота николаевской России (которым он, как сам довольно ясно намекал, мог быть захлестнут за какие-то, по-видимому, невинные либеральные увлечения), пришлось отказаться в отношениях со своими крепостными от многих привычек, усвоенных в русской офицерской среде, и следовать «духу времени». Подчеркивая, что адыгейские крепостные отнюдь не были склонны выслушивать обращения в обычном стиле русского крепостнического лексикона, вроде: «Эй, человек!», «Эй, чурбан!» и т. д., он замечал: «Когда говорю со. Своими крестьянами, я беру обыкновенно тоном ниже против того, как говорил, живя в России, с своим денщиком».
Окончание Кавказской войны, сопровождавшееся переселением в Турцию большей части адыгов, сильно затруднило возможность дальнейшего изучения их общественного строя, тем более что оставшиеся на родине были поселены все вместе в Прикубанской низменности. Однако после этой войны русскому правительству и местной администрации пришлось вплотную заняться вопросами их землеустройства и определением их со-словно-правового положения. Этим в значительной степени объясняется появление в периодической печати статей, освещавших отдельные стороны быта и общественной жизни оставшихся на родине. Так, в 1867 г. в газете «Кубанские войсковые ведомости» были опубликованы материалы, детально рисующие условия жизни адыгских «зависимых сословий».
К 70-м годам XIX в. относится официальная попытка определить права отдельных категорий адыгского населения. Это было связано с деятельностью правительственной комиссии 1873—1874 гг. по определению сословных прав горцев Кубанской и Терской областей. В Кубанской области ею была проделана большая работа: не ограничившись привлечением данных из печатных источников, комиссия изучила некоторые архивные материалы и провела устные опросы адыгских князей, дворян, тфокотлей и бывших крепостных. Такая тщательность в выполнении возложенных на нее обязанностей объяснялась определенным правительственным поручением: выяснить права отдельных категорий горского населения и приравнять эти категории к соответствующим сословиям Российской империи. В результате была составлена обстоятельная записка, которая заключает в себе целый ряд интереснейших сведений.
Совершенно недостаточное отражение в литературе нашла классовая борьба, имевшая громадное значение в истории адыгов. Правда, мимо буржуазного кавказоведения не прошли факты внутренних отношений в адыгском обществе, в частности так называемый «демократический переворот» конца XVIII — начала XIX в., но не были вскрыты характер и корни социальных противоречий и их роль в последующих событиях. Правильное в целом положение К. Ф. Стали о примитивности форм общественной жизни на Западном Кавказе не вполне соответствует, однако, действительным социальным отношениям, сложившимся у адыгов в изучаемый период. Автору этого положения несвойствен был исторический подход к явлениям, в силу чего он не сумел отразить те глубокие социальные сдвиги, которые произошли к этому времени в адыгском обществе.
В изучаемое нами время родовые отношения у адыгских народов находились уже в стадии разложения, шел процесс складывания феодализма. Это рождало немало социальных неожиданностей. Их существо довольно удачно отмечено Ф. А. Щербиной: с одной стороны, полнейшая равноправность горцев, равноправность, заставляющая даже князя стоять на ногах и упрашивать гостя-крестьянина отведать княжеской бузы и баранины, а с другой — рабство в самых грубых его проявлениях.
Темпы феодализации и сам процесс становления-феодализма у различных адыгских народов были неодинаковы. Они зависели от географических условий, степени устойчивости общины и ее институтов, от расстановки социальных сил и ряда других моментов. Поэтому структура социальной верхушки отдельных (групп адыгов была внешне весьма несхожа, что принималось современными наблюдателями за коренные различия в организации общественной жизни народов. Это нашло отражение в принятом в русской официальной переписке и в исторической литературе делении адыгов на так называемые «аристократические» и «демократические племена». К «аристократическим» обычно относили бжедухов, хатукаевцев, темиргоевцев, бесленеевцев «демократическими» считались шапсуги, (натухайцы, абадзехи. Такое деление вначале было не чем иным, как чисто практической служебной классификацией, весьма удобной для русского командования и, конечно, отнюдь не продиктованной мотивами отвлеченного этнографо-социологического интереса. Применяя эту классификацию, военные власти царской России на Кавказе прежде всего давали своим подчиненным своеобразный политический ориентир в их отношениях к различным социальным категориям общества и предохраняли их тем самым от неосторожных и непродуманных шагов, которые могли бы пойти вразрез с официальным курсом на поддержку военно-феодальной знати.
Для иллюстрации сказанного остановимся на одном из характерных случаев. В августе 1834 г. командир Отдельного Кавказского корпуса барон Розен сообщил, что полковник Засс, представивший к производству в офицеры горца Росламбека Дударукова, неправильно назвал его князем. В производстве Дударукову было отказано на том основании, что в племени, к которому он принадлежит, нет князей, а есть только «старшины или владельцы». Сообщая об этом, Розен предупредил Засса, а вместе с ним и других русских начальников, командовавших отдельными участками линии, чтобы они впредь «как подобные представления, так и всякое засвидетельствование о родах горцев делали с надлежащей осмотрительностью, дабы не имеющие княжеских титулов не могли присваивать оных по таковым ошибочным представлениям».
Кавказоведение, разумеется, не могло обойти проблему «аристократических» и «демократических племен». Все исследователи признавали, что адыгские племена делились на две группы, все они отмечали отсутствие князей и ограничение прав и привилегий дворянства у абадзехов, шапсугов и натухайцев. К. Ф. Сталь, например,так определял отличие «демократических племен» от «аристократических»:
1. Абадзехи, шапсуги, натухайцы и некоторые малые абазинские народы не имеют князей, но дворяне и рабы существуют у всех народов.
2. Тляко-тляж у абадзехов и шапсугов не имеет такого важного значения, как у народов, имеющих князей. В общинах, не имеющих князей, народ разделяется на самостоятельные общества (псухо), и каждое псухо управляется само собою своими старшинами.
3. У абадзехов есть также сословие первостепенных дворян (тляко-тляжей); вероятно, они имели прежде то же важное значение, какое имеют и поныне тляко-тляжи у темиргоевцев и кабардинцев, но в настоящее время это исчезло. Так что тляко-тляжу осталось одно имя.
4. Положение несвободного класса (крестьян) несколько легче (у абадзехов. — М. П.), чем у черкесов, управляемых князьями.
Но в чем подлинное отличие «племен аристократических» от «демократических»? На этот вопрос не сумели ответить ни К. Ф. Сталь, ни другие исследователи того времени. Во многом неясным остается он и до сих пор. Основное различие между «аристократическими» и «демократическими племенами» заключалось не в большей или меньшей степени сохранения родовых институтов и не в победе торговой буржуазии, представителями которой будто бы являлись старшины, а в особом характере развития фeoдaльных отношений у этих двух групп.
Аристократические племена — это племена с явно выраженными чертами складывающегося феодального строя, с юридически оформленной сословной структурой общества, господствующей ролью владетельных князей и дворян и феодально-зависимым положением значительной части крестьянства. Все это не исключало, однако, сохранения у них общинно-родовых институтов, которые помогали тфокотлю вести упорную борьбу со своей аристократией вплоть до самого конца Кавказской войны.
Сложнее был путь развития феодализма у «демократических племен». Неуклонный рост феодально-крепостнических тенденций знати натолкнулся здесь на более упорное, чем у других адыгейских племен, сопротивление массы тфокотлей, возглавленное старшинами. При этом тфокотли, опираясь на общину, которая давала им необходимую локальную сплоченность и средство к сопротивлению, отстаивали свое независимое существование. Старшины же видели в этой борьбе средство к уничтожению монополии княжеско-дворянской верхушки на власть.
В результате права и привилегии дворянства были ограничены, а верховенство в политической области перешло к старшинам. Они также обнаружили феодальные тенденции и составили ядро новой прослойки феодалов. Рядовые тфокотли, временно сохранив свободу и экономическую самостоятельность, вскоре должны были стать. объектом феодальной эксплуатации со стороны старшин.
Соперничество России и Турции, стремившихся привлечь на свою сторону отдельные группы населения, межплеменная вражда, отсутствие государственного аппарата, действия правовых институтов родового строя — все это не позволило дворянско-княжеской верхушке полностью парализовать борьбу тфокотлей за свои права и привилегии.
Можно утверждать, что в основе организации общественной жизни обеих групп (« аристократических» и «демократйческих») в тот период лежала община (куадж), объединявшая ряд аулов (хаблей). Несколько общин составляли племя.
Факт общинного устройства адыгейских племен безоговорочно признан большинством исследователей, но одно это еще не решает вопроса о том, в какой стадии находилось общественное развитие адыгов накануне завоевания Кавказа царизмом.
Общинный строй, как известно, прошел ряд этапов, каждый из которых знаменовал новую, более высокую ступень его развития. Установлены две исторические формы общины: родовая и сельская (земледельческая). В черновых набросках письма к В. Засулич К.Маркс дал четкое методическое указание на различие в их социальной сущности и экономической основе. Он писал: «В земледельческой общине дом и его придаток — двор были частным владением земледельца. Общий дом и коллективное жилище были, наоборот, экономической основой более древних общин...
Пахотная земля, неотчуждаемая и общая собственность, периодически переделяется между членами земледельческой общины, так что каждый собственными силами обрабатывает отведенные ему поля и урожай присваивает единолично. В общинах более древних работа производится сообща, и общий продукт, за исключением доли, откладываемой для воспроизводства, распределяется постепенно, соразмерно надобности потребления».
Итак, четыре момента отличают сельскую общину от родовой: коллективная собственность на луга, леса, выгоны и на еще не поделенную пахотную землю; частный дом и двор, являющиеся исключительным владением индивидуальной семьи; раздробленная обработка земли; частное присвоение ее плодов.
Анализируя конкретный исторический материал, а также пережитки старины в быту адыгов, мы приходим к выводу, что куадж - это поземельная сельская община со всеми ее особенностями.
Скудость источников не дает возможности установить более или менее точные хронологические рубежи отдельных этапов превращения адыгейской общины из родовой в сельскую. Процесс этот был результатом длительной эволюции. Непрерывные передвижения племен и родов, постоянные войны, естественный процесс распада родовых и племенных соединений в связи с ростом производительных сил и изменениями в условиях производства и отношениях собственности — все это вело к ослаблению родовых уз и раздельному расселению родственных групп сначала большими патриархальными семьями, а затем и малыми, индивидуальными. Отдельные семьи, ответвляясь от основного ствола, образовывали «дочерние поселения». Несколько десятков таких отпавших от разных родов семей объединялись. Родовые связи уступали место территориальным. У черкесов «ни одна фамилия (род) не живет вместе в одной долине так же, как в одной долине живут семейства разных фамилий или родовых союзов» .
Следовательно, как и всякая сельская община, куадж был прежде всего территориальным союзом, первым социальным объединением свободных людей, не связанных кровными узами.
Будучи последней фазой родового общества, сельская община представляла собой сложное историческое явление со своими собственными законами и путями развития.
В цитированном выше письме к В. Засулич К. Маркс отмечал, что встречаются сельские общины переходного типа, в которых сочетаются элементы родовой и сельской общин. К такому именно типу и относится, как нам кяжется, куадж. Быт адыгов, организация политической жизни, правовые нормы, традиции и даже сама структура общины еще в сильной степени сохраняли черты родового строя. Интересно что эти черты явно преобладали в жизни социальной верхушки адыгов.
Многие наблюдатели прошлого столетия правильно отмечали, в частности, наличие крупных семейных коллективов в составе куадж, однако сильно преувеличивали их общественную роль, забывая, что наряду с ними уже давно существовали индивидуальные семьи свободных общинников — тфокотлей, облик которых был совершенно иным. Они не учитывали также и того, что патриархальная форма большой семьи давала адыгейской знати широкие возможности для эксплуатации обедневших соплеменников. Буржуазные авторы ограничивались лишь простой констатацией фактов. Так, рассказывая об отдаче «посторонних лиц» (то есть бедноты) «под покровительство» глав таких семей, они не выясняли истинных причин этого явления. Между тем, по свидетельству многочисленных архивных документов, такими причинами были разорение тфокотлей и долговая кабала, в которую они попадали.
Наиболее отчетливо черты древних родовых отношений выступали у так называемых «демократических племен» (шапсуги, абадзехи, натухайцы), но в известной мере они были типичны и для племен «аристократических».
Групппа родственных семей, связанных общим происхождением по мужской линии, составляла род, или согласно русской официальной терминологии фамилию— ачих. Несколько родов составляли братство, или тлеух. Члены рода были связаны обязанностью кровной мести и взаимопомощи.
Довольно широко был распространен у адыгов обычай приемного родства и побратимства. Он был связан с особым ритуалом. Если люди разных родовых союзов или даже иноплеменники решали заключить между собой союз на жизнь и смерть, то жена или мать одного из них давала новому другу мужа или сына коснуться три раза губами своей груди, после чего он считался членом семьи и пользовался ее покровительством. Были случаи, когда к побратимству прибегали даже русские офицеры.
Ф Ф. Торнау рассказывал, что когда он отправился на разведку в горы и нуждался для этого в надежном проводнике, то прибег именно к этому средству. Ему удалось при помощи посредника стать побратимом горца по имени Багры. «Жена Багры, пришедшая с мужем погостить в отцовском доме,— писал Ф. Ф. Торнау,— была налицо, следственно, дело не представляло больших препятствий. С согласия мужа Хатхуа породнил меня с нею, причем несколько кусков бумажной материи, холста, ножницы и иголки, считавшиеся в Псхо неоценимыми редкостями, да кинжал с золотою насечкой запечатлели наш союз. Багры, вступив в обязанность аталыка, принадлежал мне вполне. Благодаря его суеверию и привязанности, которую он питал к своей жене, я мог полагаться на него, как на самого себя».
Выдающейся ролью семьи в прошлом объясняются такие явления в быту современных адыгов, как большое число однофамильцев в аулах, кварталы, состоящие из родственных семей, преобладание одного из родов в ауле, и другие пережитки старины. Для полноты характеристики сельской общины необходимо исследовать господствовавшие в ней аграрные отношения. В рассматриваемое время община находилась на той стадии развития, когда при коллективной собственности на землю обработка ее и присвоение продуктов труда производились отдельными семьями. У адыгов, отмечали современники, «каждое семейство владеет... всем своим имуществом движимым и также домом и обрабатываемым участком земли; все же пространство земель, лежащих между поселениями семейств родового союза, находится в общем владении, не принадлежа никому отдельно».
Л. Я. Люлье, наблюдавший жизнь адыгов в первой половине XIX в., подчеркивал, что у шапсугов и натухайцев существовали индивидуальные семейные земледельческие хозяйства. Он говорил: «Невозможно определить, на каком основании совершился раздел земель, подвергшихся раздроблению на малые участки. Право владения определено или, лучше сказать, укреплено за владельцами несомненно, и переход наследства из рода в род бесспорный»
То же самое по существу писал и Н. Карлгоф. По его наблюдению, право собственности у черкесов распространялось на имущество движимое (прежде всего скот) и такое недвижимое, которое находилось в действительном и непосредственном владении, частных лиц и требовало от них собственного труда (дома и другие хозяйственные постройки, постоянно обрабатываемые поля). Земля же, лёжащая впусте, пастоищные и луговые места, равно как и леса. не составляли частной собственности. Эти земли находились в нераздельном владении обществ и фамилий, из которых каждое имеет свои земли, переходившие из рода в род, но правильного раздела и ясного обозначения границ никогда между ними не было. Частные лица пользовались землей своих фамилий или обществ по мере действительной надобности.
Мы, к сожалению, не можем воспроизвести полностью облик сельского двора адыгейского общинника конца XVIII — начала XIX в. Адыгские аулы в то время состояли из отдельных усадеб, вытянувшихся обычно вдоль ущелий по берегу реки и обращенных задворками к лесу. Рядом с домом, окруженным забором, находились огороды и недалеко от них участки пахотной земли, освоенные отдельными семьями. На огородах сеяли пшеницу, рожь, просо и кукурузу. Вокруг них росли деревья и целые рощи, которые были для адыга «первой необходимостью».
Н. А. Тхагушев сделал вывод, что адыги на приусадебных участках разводили плодовые деревья. Предположение Н. А. Тхагушева подтверждается и свидетельствами современников, которые отмечали, что редкий адыг не имел возле своего дома садика или нескольких грушевых деревьев.
Тезису о главной роли индивидуального семейного хозяйства у адыгов не противоречат и сведения о той организации земледельческих работ, которая еще наблюдалась в отдельных пунктах адыгейской территории и заключалась в том, что сперва определяли, какое количество земли необходимо для пахоты всего аула, и работали сообща, а затем по жребию делили землю в соответствии с числом работников и волов от каждой семьи.
От Индии и до Ирландии, по Энгельсу, обработка земельной собственности на больших пространствах производилась первоначально такими именно родовыми и сельскими общинами, причем пашня либо обрабатывалась сообща за счет общины, либо делилась на отдельные участки земли, отводимые общиной на известный срок отдельным семьям, при постоянном общем пользовании лесом и пастбищами.
Небезынтересно отметить, что в связи с ростом экономического значения индивидуальных семейных хозяйств в жизни адыгейских племен один из исконных правовых институтов родового строя—кровная месть в XVIII—XIX вв. включил в круг своего действия явления, связанные с защитой материального благополучия. В показаниях многих адыгов, бежавших из-за Кубани от кровной мести, часто встречаются указания на то, что они навлекли ее на себя в результате конфликтов с соседями, возникавших из-за нарушения частнособственнических интересов. Так, бежавший в 1841 г. восьмидесятилетний шапсугский тфокотль Хатуг Хазук рассказывал: «Во время жительства моего при речке в ауле сделал я с одним черкесином того аула — Джамбулетом спор за потравлю овцами его жита, мне принадлежащего, которого я при споре от себя оттолкнул, и он упал на том же месте и помер; отчего по возбуждении на меня шапсугами и принужден под покровительство России с семейством бежать и желаю водвориться на Каракубанском острове». Оставляя на совести почтенного старца истинные причины скоропостижной смерти его соседа, нельзя не обратить внимание на то, что ссора между ними произошла из-за жита, выращенного на индивидуальном земельном участке, который находился внутри общинной территории аула.
Экономические мотивы звучат также и в жалобах других беглецов. Шапсуг Сельмен Тлеуз показал, что после смерти отца и матери он с женой остался «один без всякого родства и, проживая в аулах по хозяевам», никак не мог наладить собственное хозяйство. Это и за ставило его покинуть родные места, уйти на русскую территорию и также просить, чтобы его поселили на Кара-кубанском острове. Подчеркивая свою экономическую несостоятельность, он закончил показания следующей фразой: «...имения же у меня, кроме лошади и оружия, никакого нет».
Итак,- в XVIII—XIX вв. у адыгов обрабатываемые отдельными семьями земли уже выделяются в их индивидуальное пользование. Частная собственность на индивидуально обрабатываемый полевой участок, с одной стороны, коллективная собственность на неподеленную землю и угодья — с другой — такова экономическая основа куадж. Таким образом, адыгейская община покоилась на неразвитых отношениях поземельной собственности, переходных от общей к частной.
Частная собственность распространялась только на землю, занятую под усадьбой, садом и огородом. Полевые же участки выделялись общиной на правах надела. Остальная земля (пустоши, луга, леса, выгоны, пастбища) оставалась в нераздельном владении общины, составляя общественную собственность, которой имел право пользоваться всякий член общества по мере своих надобностей. Будучи уже в частном и притом наследственном владении отдельных семей, земля у адыгов еще не являлась, однако, свободно отчуждаемой земельной собственностью. Как правило, она не продавалась, не покупалась и не сдавалась в аренду.
По адату право наследования ограничивалось родством по мужской линии. Прямыми наследниками адыга признавались сыновья, затем родные братья,племянники и далее двоюродные братья и их сыновья. После смерти отца сыновья получали все его имущество и поровну делили между собой, выделяя вдове сколько-нибудь на прожиток, и то, если она не выходила замуж. Ей также предоставлялось право выбрать себе для жительства дом одного из сыновей или пасынков. Обычное право горцев лишало женщину прав наследования.
Со временем эти ограничения частично отпали, что нашло свое отражение в нормах шариата, распространившегося у адыгов после принятия ими мусульманства У тех горских племен, у которых шариат преобладает над адатом, указывал Ф. И. Леонтович, при разделе имения наблюдаются следующие правила: жена покойного полу чает 1/8 долю всего имения; из остального же 2/3 полу чает сын и 1/3 — дочь. Если же после умершего не оста лось сыновей, то по отделе 1/4 части жене остальное име ние разделяется на две части (в том случае, если после покойного осталась одна дочь), из коих половина отдается дочери, а другая — ближайшему родственнику. Наследственное право адыгов сохранило также некоторые пережитки матриархата. Так, по адату муж не наследовал имения жены. Оно переходило к детям, а при отсутствии их, оно возвращалось родителям или ближайшим родственникам. Стеснения и ограничения общинника в праве распоряжаться принадлежащей ему землей задерживали развитие института частной поземельной собственности и вызревание элементов феодализма в адыгейском обществе, опутывали зарождавшиеся феодальные отношения (многочисленными патриархально-родовыми пережитками, но остановить их поступательное движение они не могли. Несмотря на все препятствия, рядом с мелким свободным крестьянским хозяйством, основанным на личном труде, вырастало крупное хозяйство адыгейских князей, дворян, старшин и зажиточных тфокотлей, базировавшееся на труде рабов и крепостных. Предпосылки к этому были созданы самим экономическим строем сельской общины, то есть противоречивым сочетанием общинного землевладения и частного пользования землей.
Концентрация земли в руках князей, дворян, старшин и богатых тфокотлей происходила на основе освященной адатом практики, которая объективно служила их экономическим интересам. Они использовали утвердившийся в общине принцип раздела земли междусемьями с учетом_числ а их членов, количества орудий производства и тягловой силы. Это открывало простор для расхищения общинных земель. Еще большее значение имело то обстоятельство, что при разделе земли принималось во внимание и общественное положение семьи. За «почетными лицами» (князья и первостепенные дворяне в «аристократических племенах», старшины — в «демократических») признавалось предпочтительное право распоряжаться и пользоваться лучшими участками.
В «Собрании сведений, относящихся к народным учреждениям и законоположениям горцев — адату, 1845 года», записано: «Князья... пользуются лучшими местами для пастбищ своего скота на всем пространстве земли, на котором жительствуют покровительствуемые ими аулы одного с ними племени, а близ того аула, в котором живут сами, даже пользуются правом ограничивать для себя собственно удобнейшую землю под хлебопашество и сенокос, которую жители сего аула, также и других, не могут обрабатывать в свою пользу иначе как с дозволения их».
Следует заметить, что на этом были основаны позднейшие притязания адыгейского дворянства на землю. Не ограничиваясь правами, признаваемыми за ними обычаем, князья нередко пытались захватить общинные права и земли, что с неизбежностью приводило к тяжбам общин со своими князьями и социальным конфликтам. Факт этот был настолько очевиден, что не мог не броситься в глаза сколько-нибудь внимательному наблюдателю. Так, у К. Ф. Сталя мы встречаем следующее интересное замечание: «Поземельной собственности отдельно от своего народа князья и дворяне у черкесов никогда не имели. Так по крайней мере видно из многих споров, затеваемых общинами против своих князей». Желал ли того К. Ф. Сталь или нет, но его замечание прямо указывает на внутреннюю противоречивость адыгейского общества того времени. Одним из источников социальной борьбы как раз и являлись силы общинных прав на землю, с одной стороны, и возникновение крупной земельной собственности феодального типа в ущерб мелкому свободному общинному землевладению — с другой. Среди повинностей бжедухских тфокотлей особый интерес представляет обязанность каждой семьи давать ягненка владельцу аула за то, что он выжжет прошлогоднюю траву на общинных пастбищах. В этом, несомненно, проявилось стремление князей и дворян подорвать коллективное владение землею и установить, над ней свой верховный суверенитет. По-видимому, это наиболее ранняя и притом специфическая для оседлого скотоводческо-земледельческого хозяйства форма присвоения общинной собственности на землю феодалом. Такое предположение подтверждается прямым свидетельством современников, на котором мы уже останавливались выше: «...при существовавшем во многих местностях обычае, что земля— точно так же как воздух, вода и лес,— суть общественное достояние, пользоваться которым может каждый без всякого ограничения, допускалось, что некоторые из почетных лиц имеют предпочтительное пред другими право распоряжаться землею». К XIX в. эволюция этого права привела к тому, что оги стали даже вносить князьям и дворянам особую плату за пользование землей.
Феодальные притязания адыгской знати особенно отчетливо проявились в прошении, поданном бжедухскими князьями и дворянами в 1860 г. генералу Кусакову, где они утверждали, что якобы «издавна считались владетельными особами простого народа» и что им одним принадлежала земля, которую они «отдавали в пользование народа».
Другой тенденцией феодализирующейся знати были попытки установить власть над сельскими общинами и подчинить их свободное население. Сами адыги, не имея письменности, не оставили свидетельств, которые позволяли бы проследить за всем ходом борьбы, развернувшейся на этой почве между общинами и родоплеменной аристократией. Однако на основании народных преданий начало этой борьбы отнесем к середине XVIII в. Она приняла затяжной характер и охватила всю первую половину XIX в. В условиях глубокого разложения родовых отношений и далеко зашедшей имущественной и социальной дифференциации одним из средств закабаления рядовых общинников явились сохранившиеся у адыгов супряжки, помочи и другие виды трудовой взаимопомощи, которые князья, дворяне и зажиточные тфокотли использовали для эксплуатации свободных крестьян. Не случайно социальные верхи адыгского общества так цепко держались за уцелевшие остатки родовых порядков. Помочи, писал Ф. А. Щербина, устраивались иногда с благотворительной целью. В других случаях помочи устраивали не только для бедных, но и для богатых, и тогда они несколько теряли свой общинный характер, являясь чем-то вроде дани людям богатым и влиятельным со стороны бедняков.
Итак, общественный строй адыгов в XVIII — первой половине XIX в.. характеризовался наличием достаточно ярко выраженных черт родовых отношений, однако не менее отчетливо проступали в нем элементы феодализма.
Феодализм у адыгейских народов — одно из наиболее сложных и своеобразных явлений социально-экономической истории. Ключ к его пониманию дает известное положение марксизма, гласящее, что общность закономерностей исторического развития не исключает конкретных форм проявления этих закономерностей. «Один и тот же экономический базис,— писал К. Маркс,— один и тот же со стороны главных условий — благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д.— может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств».
В отличие от стран Западной Европы, в которых феодализм складывался на основе противоречивого взаимодействия двух процессов — разложения рабовладельческого способа производства в поздней Римской империи и родового строя у завоевавших ее племен,—у адыгов миновавших рабовладельческую формацию (хотя рабство и существовало у них как уклад), феодальные отношения развивались в результате разложения традиционно-общинных связей. Территориальная община сохранилась у них в наиболее чистом виде и держалась дольше, чем у многих других народов. Опираясь на нее, адыгейское крестьянство успешнее сопротивлялось закрепощению Процесс феодализации совершался здесь поэтому очень медленно. Многочисленные патриархально-родовые пережитки опутывали различные области жизни адыгов. Устойчивость дофеодальных порядков в обществе во многом объясняется и естественно-географическими условиями Кавказа. Исторически определилось, что «следы сушествования марки сохранились до настоящего времени почти только в высоких горных местах». Горы и леса Западного Кавказа, созданные самой природой замкнутость и изолированность отдельных районов содействовали сохранению архаичных форм общественной жизни и тормозили переход на новую ступень ее организации. В узких и тесных горных долинах не представлялись в то время возможными ни организация крупного поместного хозяйства, ни интенсификация земледелия ни, тем более, сколько-нибудь развитая городская жизнь.
Известную роль в длительном сохранении родовых пережитков сыграла заинтересованность в этом верхушки тфокотлей, которая использовала остатки старины для ослабления позиций старого дворянства.
Наряду с этим действовали факторы, способствовавшие развитию феодализма у адыгов. Одним из таких факторов были кавказские войны XVIII—XIX вв. На Кавказе в то время создалась необычайно сложная политическая обстановка. С одной стороны, на адыгейское население стремились распространить свое влияние феодальная Турция и стоявшие за ее спиной европейские державы, враждебные России. Вмешательство этих государств во внутренние дела адыгов и их воздействие на общественную жизнь коренного населения имели огромное значение и недостаточно, как нам кажется, учитывались исследователями. С другой стороны, царское правительство также искало пути, которые ускорили бы утверждение его власти над этим населением. Стремясь создать себе социальную опору, царизм, как правило, ориентировался на знать. Одним из средств привлечения ее на свою сторону юн избрал поощрение осуществляемого ею захвата общинных земель. Большое значение имела постоянная межплеменная вражда. Хроническое состояние войны способствовало росту и возвышению дворянско-княжеской знати.
Необходимыми— условиями существования феодального строя являются монополия господствующего класса — феодалов на землю и личная зависимость наделенного землей непосредственного производителя — крестьянина. Вызревание этих условии и составляло основное содержание зарождения феодализма. Оно представляется как двусторонний процесс: захват земли феодалами, с одной стороны, обезземеливание и закрепощение некогда свободного общинника — с другой. У адыгов это про-исходило своеобразно. Развивающиеся феодальные отношения не достигли еще того уровня, когда господствующей формой становится крупное землевладение. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позволяют утверждать, что земля была безоговорочно монополизирована дворянством.
Юридически ни князья,ни дворяне не считались собственниками той земли, которой они фактически владе-ли. Феодальная собственность на землю уже, несомненно, существовала в рассматриваемое время, но в скрытой форме. Она была опутана пережитками родового общества. Поэтому утвердившееся в буржуазном кавказоведении мнение об отсутствии у князей и дворян поземельной собственности является правильным только формально. Многочисленные архивные материалы дают нам ясные указания на то, что феодализирующаяся адыгейская знать упорно стремилась к распространению своих владельческих прав на общинные земли. Однако преступить адат и юридически оформить этот захват ей не удалось. Ко времени завоевания Кавказа социальная верхушка успела лишь добиться признания за собой преимущественных прав на землю и выработать определенные правовые представления и сословные обычаи (уоркхабзе), резко отделявшие ее от остальной массы населения.
Таким образом, главной особенностью адыгейского феодализма было своеобразие основы феодальных производственных отношений: часть общественной земли. была фактически присвоена феодалами, хотя официально этот факт не был признан и юридически суверенное право на землю сохранялось за общиной. Отсутствие полной частной собственности на землю создавало серьезнейшие препятствия для феодальной знати. У адыгов еще не было свободно отчуждаемой земельной собственности. Отсюда своеобразие и медленные темпы феодализации.
Земельная собственность адыгейских феодалов лишена была многих специфических черт. Здесь не сложилось характерной для феодализма системы земельных удержаний и личной зависимости одного феодала от другого так как нижестоящий далеко не всегда получал от господина наследственное земельное владение. При анализе особенностей адыгейского феодализма нельзя игнорировать и то обстоятельство, что становление его проходило у местного коренного населения в тот исторический период, когда феодализм в целом был уже отживающей формацией. Это не создавало прочных оснований для его развития. Складывалась чрезвычайно оригинальная ситуация: феодальные отношения не успев развиться и окрепнуть, уже были обречены на вымирание.
Благодаря довольно широким экономическим связям с внешним миром адыгейское дворянство и особенно верхушка тфокотлей в лице старшин все более втягивались в торговые и товарно-денежные отношения. Это содействовало экономическому процветанию и социально-политическому возвышению зажиточных тфокотлей. Итак, природные условия, внешнеполитическая обстановка, внутренняя социальная борьба и другие факторы осложнили процесс феодализации в адыгском обществе, и поэтому он совершался медленно, в высшей степени своеобразно, минуя рабовладельческую формацию. Но рабство долго сохранялось как уклад. При натуральном хозяйстве торговые и денежные операции играли, однако, довольно значительную роль.
Перейдем к вопросу о социальном строе адыгейских народов. Адыгское общество, не имея еще четкого классового деления, было вместе с тем уже глубоко расчленено. В официальных документах и исторической литературе отдельные социальные подразделения обычно называли «сословиями». Такими «сословиями» были: князья (пши), дворяне (уорки), свободные общинники (тфокотли), несвободные — рабы (унауты), крепостные (пшитли) и феодально - зависимые (оги).
Князья и дворяне разных степеней составляли феодальную верхушку в структуре общества. В качестве «почетных лиц» они пользовались рядом преимуществ и привилегий, закрепленных за ними адатом: наследственностью звания, правом на суд равных и др. У «демократических же племен» после «переворота» конца XVIII — начала XIX в., о котором мы будем говорить ниже, главную роль стали играть так называемые старшины.
Адат строго различал владетельных и невладетельных дворян. Владетельными считались князья и первостепенные дворяне. Юридическим обоснованием их владельческих прав было происхождение от бывших племенных вождей, то есть традиция, указанная адатом. Особым почетом и влиянием в «аристократических племенах» пользовались князья. Старший: член княжеской фамилии считался владельцем' племени. Звание князя было наследственным и передавалось от отца всем законным детям, рожденным от равных браков. Что же касается сына, рожденного от брака князя с простой дворянкой, то он получал название «тума» (незаконного).
Одной из важнейших привилегий князя было право вершить суд и расправу над своими подвластными. Кроме того, он имел право объявлять войну и заключать мир. При дележе захваченной добычи князю выделялась лучшая часть, даже если он сам в набеге не участвовал. Князь имел по адату право на получение повышенных штрафов за причиненный ему материальный ущерб. Он мог возводить своих «подданных» в дворянское достоинство, и эти новые дворяне составляли его вассальное окружение.
В середине XIX в. к князьям перешел уже ряд общинных прав, как, например, право решать вопросы о поселении новых лиц на подвластной им территории, что в свою очередь открывало перед ними возможность единолично распоряжаться общинными землями в будущем.
В числе основных экономических привилегий князей быдо отмеченное уже выше преимущественное право выделять для себя и для своих вассалов лучшие земли, а также взимать торговую пошлину (курмук) со своих подвластных и проезжих купцов. Наконец, что особенно \ важно, князья получали с населения подвластных им ау- ) лов натуральный оброк в виде зерна, сена и других сельскохозяйственных продуктов, а в отдельных случаях могли даже привлекать жителей этих аулов к работам в своем хозяйстве. Такие работы представляли собой зародышевую форму отработочной ренты. Характерно, что все эти повинности прикрывались оболочкой добровольности, хотя и были порой весьма тяжелы.
Собственной крупной запашки князья, как и дворяне первой степени, обычно не имели, удовлетворяя потребности и нужды своего двора за счет «добровольных приношений» подвластных. Эти приношения постепенно перерастали в натуральные повинности. Неуклонный рост их с течением времени объективно должен был привести к закрепощению свободного населения. Не ведя крупного земледельческого хозяйства, князья обладали, однако, большим количеством рогатого скота, который имели право пасти не только на выделенных из общинных земель пастбищах, но и на всей подвластной им территории.
Следующей группой феодалов были дворяне первой степени, обладавшие почти такими же правами, как и князья, только на меньшей территории, и отличавшиеся от них лишь тем, что им оказывались несколько меньшие почести. Число их было невелико. За ними шли дворяне второй и третьей степени. Они были невладетельными и жили в аулах, принадлежавших князю или первостепенному дворянину. Их обязанностью была военная служба своему сеньору.
Дворяне второй степени имели рабов и крепостных, вели самостоятельное хозяйство, картину которого вследствие отсутствия источников восстановить крайне трудно.
Дворяне третьей степени составляли постоянную княжескую свиту. Их содержали на княжеском дворе за счет продуктов, собираемых с крестьян. Другим источником их существования была военная добыча. Как типичные феодальные дружинники, они имели право отъезда.
Архивные документы позволяют заключить, что многие мелкие дворяне постоянно переезжали из одного племени в другое и, предлагая свои услуги для участия в военных предприятиях, постепенно образовали своеобразную межплеменную прослойку «наемников». В отдельных случаях путь таких людей был весьма причудлив и иногда заканчивался даже тем, что они попадали в крепостную зависимость. Приведем один характерный пример. Мелкий хамышейский дворянин Клюко-Хануко Абидок после смерти своего патрона Ханука перешел к абадзехам. Пробыв у них три года, он отправился к шапсугам. Не ужившись и у них, он в 1825 г. перешел в Анапу, куда его пригласил родственник его покойного сеньора Ханук Баречеко. Этот последний имел на натухайской территории крупное хозяйство, поставлявшее хлеб и скот на анапский рынок. Живя у него, Клюко-Хануко Абидок, по его собственным словам, находился «более в степи, где делается хлебопашество хозяина его Ханука и производится сенокос». Новый патрон Абидока был в добрых отношениях с турецкими властями в Анапе и особенно с влиятельными натухайскими старшинами. Поэтому он решился на закрепощение благородного адыгейского дворянина, верно служившего его покойному родственнику. На счастье Абидока, у него нашлись доброжелатели, которые вовремя сообщили ему, что если «долее будет жить у помянутого своего хозяина, то он сделает его крепостным и продаст туркам». После этого Абидоку оставалось только бежать к русским с тем, как он заявил, чтобы «быть навсегда преданным России».
Десятки других аналогичных по своему характеру документов подтверждают, что у адыгов существовал своеобразный институт старожильства, не нашедший отражения в их обычном праве. Он неумолимо втягивал в крепостную зависимость обедневших иноплеменников, независимо от их прежнего происхождения. Оскудение владетельных дворян «демократических племен» отразилось и на положении зависевшего от них мелкого дворянства.
Тфокотли и образование новой феодальной прослойки
Класс феодалов формировался не только из родоплеменной знати и дружинников, но и из верхушки тфокотлей. Для того чтобы понять причины этого явления и уяснить себе сущность данной группы феодалов, представленной так называемыми старшинами, необходимо разобраться в условиях ее возникновения.
Свободные общинники были основной массой населения. В них многие исследователи видели аборигенов края, составлявших ядро адыгейского народа и вместе с тем его основной «производительный класс».
Ф. И. Леонтович указывал, что тфокотли даже «аристократических племен», признававшие над собой власть князей и дворян, все же будто бы пользовались одинаковой свободой «с сословиями узденей и духовенства».
С известными оговорками можно высказать мысль, что тфокотль напоминает йомена средневековой Англии, который сохранил хозяйственную самостоятельность и личную независимость, вынесенные им из недр родового строя, и энергично отстаивал их в обстановке складывавшегося феодализма.
В конце XVIII в. тфокотли в результате разложения родовой общины уже не представляли собой однородной массы. Из их среды выделилась зажиточная верхушка, которая обладала значительным количеством скота, имела рабов и крепостных и вела самостоятельное хозяйство. Вместе с тем многие семьи тфокотлей беднели, а иногда даже и вовсе лишались экономической самостоятельности.
Имущественному расслоению тфокотлей, в особенности у прибрежных адыгейских племен, способствовали весьма оживленные торговые связи с Турцией. В ряде пунктов (Анапа, Суджук-Кале, Геленджик и др.) происходили крупные торговые операции. Так, во владениях натухайцев, прилегавших к Анапе, в то время, когда она находилась в руках турок, развилось значительное товарное земледельческое хозяйство и скотоводство с широким применением принудительного труда. Объяснялось это не только тем, что турецкий гарнизон и турецкое население в самой крепости снабжались в основном за счет местных продуктов, но и тем, что хлеб из Анапы в довольно больших количествах экспортировался в Турцию. Именно поэтому зажиточные натухайские тфокотли и старшины так жадно охотились за рабами и крепостными. Не случайно один из исследователей быта адыгов вынужден был отметить, что здесь свободные люди вследствие бедности влезали в долги, становились «в обязательные отношения к заимодавцам, были закабаляемы ими и также пополняли собою сословие пшитлей».
Характерно, что когда во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Анапа была взята русскими войсками, то в крепость устремилась масса беглецов из окрестных аулов, и в их числе шапсуги, абадзехи, кабардинцы, русские, татары и даже киргизы. Все они были захвачены в свое время в плен и в конце концов осели в окрестностях Анапы, где использовались в качестве подневольной рабочей силы. Среди них оказалась даже группа рабов, купленных в Турции и оттуда уже привезенных на Кавказ.
Общественно-правовое положение основной массы тфокотлей у «демократических племен» по архивным документам можно изучить, к сожалению, в самых общих чертах. Их называли «вольным сословием», «вольными людьми». За ними признавалось право владеть пшитлями. и унаутами, которые находились в личной зависимости от них и являлись их имуществом.
Гораздо более отчетливо рисуется положение рядовых тфокотлей у другой группы— «племен аристократических». Объясняется это тем, что русское правительство в своей политической деятельности постоянно сталкивалось с крепостническими притязаниями князей и дворян, настойчиво требовавших признания и защиты их владельческих прав по отношению к тфокотлям взамен принесенной ими «верноподданнической присяги». Архивные документы и литературные источники свидетельствуют о том, что основная масса тфокотлей находилась под постоянной угрозой закрепощения и, несмотря на формальную принадлежность к свободному сословию, обязана была нести различные повинности в пользу князей и дворян, в частности делать подаяние духовным лицам и давать князьям и дворянам калым за промен на меновых дворах леса и других своих продуктов. Кроме того, тфокотли работали в «нужное для них время» на князей и дворян «по доброй своей воле» или «по приглашению».
Наиболее полный перечень повинностей, которые несли тфокотли (на примере бжедухов), мы находим в статье Хан-Гирея «Князь Пшьской Аходягоко». Он писал, что при разделе имущества между братьями семья тфокотлей обязана была дать своему владельцу столько волов, сколько дворов, или домов, образовалось вновь. Когда общинник выдавал свою дочь замуж, он должен был дать своему князю или дворянину пару волов. По окончании уборки хлеба с него взималось восемь мер проса. Весною владелец аула выжигал прошлогоднюю траву на пастбище («пускал пал»), что являлось его особой привилегией, и за это получал от каждого семейства тфокотлей по одному ягненку. Кроме того, он имел право налагать штрафы на общинников за неуплату установленных обычаем взносов, например в случае, если тфокотль убил на охоте оленя и не принес своему владельцу лучшей части туши (бго), и т. д.
В 1828 г. бжедухские тфокотли, жалуясь на произвол князей Алкаса и Мухаммеда, в коротких, но необычайно ярких словах охарактеризовали все более возраставшие крепостнические притязания адыгейской феодальной знати. Они говорили: «князьям Алкасу и Мамету ни по каким правам во владение не принадлежат, нигде и ни у кого ими не куплены и никакими другими средствами не укреплены, происходят от бзедухов свободного племени. Оставшись с давнего времени около сих князей в соседственном жительстве, сначала из дружественных обращений сносили их работы, уделяли им весьма нечувствительную часть пожитков своих, между чем сии князья, простирая власть свою на их владение, дошли до того, что начали с них требовать всего половину и на подать султану Оттоманской Порты брать у них мужска и женска пола детей».
Насколько нам известно, этот документ является единственным источником, в котором звучит голос самих тфокотлей, рассказывающих о наступлении князей и дворян на их свободу и независимость. Его ценность тем более велика, что аналогичные явления имели место и у всех других «аристократических племен».
Крепостнические претензии знати вызывали ожесточенное сопротивление тфокотлей, приводившее к крупным вооруженным столкновениям. Наиболее значительными из них были Бзиюкская битва (Бзиикозауо) 1796 г. в долине р. Бзиико, в 19 верстах от Екатеринодара, в которой участвовало свыше 50 тысяч человек, и битва против князей и дворян (Пшиоркзауо) 1856 г. на левом берегу р. Кубани, близ аула Понежукай. В последнем сражении ополчение восставших тфокотлей наголову разбило войска адыгейской феодальной знати. Большое число дворян и князей было убито, а из захваченных в плен победители даровали жизнь и позволили жить на прежних местах только тем, кто поклялся отказаться от своих владельческих прав.
Борьбу общин с дворянством возглавила и использовала для оттеснения дворян и утверждения своего господства над соплеменниками разбогатевшая верхушка тфокотлей в лице старшин. Эта борьба происходила на базе еще весьма прочных социально-политических институтов общинного строя.
Достигнув победы, старшины временно вынуждены были маскировать свои подлинные цели. Они не покушались на отживавшие родовые установления, а, напротив, старались их законсервировать, с тем чтобы превратить из орудий народной воли в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против собственного народа.
Об усилении политической роли старшинской верхушки у прибрежных адыгейских племен наиболее отчетливо было сказано в 1840 г. начальником Черноморской береговой линии Н. Н. Раевским. В докладе, представленном военному министру, он писал: «Лет двадцать тому назад... политическое состояние Восточного берега было следующее: вся власть находилась в руках узденей (здесь Н. Н. Раевский имел в виду всю феодально-дворянскую верхушку прибрежных адыгейских племен.— М. П.), равных между собою; им принадлежали земли, и простой народ, на них поселенный, составлял их вассалов, совершенно как во время феодального правления Европы в средние века. Но возле узденей родилось сословие тохов (то есть тфокотлей.— М. П.) — вольных людей, обогатившихся торговлею и ремеслами. Оно держало сторону турок и ныне намерено пристать к нам. Турецкое правление, желая распространить свою власть, поддерживало сие сословие... Сословие сие весьма увеличилось и составляет сильнейшую партию. Оно постепенно родилось и развилось у всех других горских народов... С присоединением Восточного берега к России мы в наших враждебных действиях не обратили внимание на сие политическое положение... Вокруг Анапы под покровительством турок населилось 60 аулов, состоявших единственно из тохов, или вольного сословия... Ныне обе партии снова разделяются, и вольное сословие желает пристать к нам, как некогда приставало к туркам. Едва начинающаяся торговля солью и мирные сношения произвели сие важное событие. Может быть, выгодно было бы для нас сохранить равновесие между двумя партиями, но я полагаю узденей слишком слабыми, и с примирением края сей воинственный класс утратит остальное влияние свое... Враждебные действия препятствовали только развитию торговли, ремесел и, следовательно, сословию, более других расположенному к миру и покорности. Несмотря на все препятствия, сие сословие усилилось на всем Кавказе». Эта характеристика общественно-политической роли богатой старшинской верхушки тфокотлей представляет исключительный интерес. При внесении уточнений в утверждение Н. Н. Раевского о полной аналогии общественного устройства местных племен и социального строя средневековой Европы ее нельзя не признать правильной..
Современник Н. Н. Раевского, Белль, который длительное время жил среди горцев Западного Кавказа и имел возможность хорошо изучить их быт, также отмечал повышение роли богатых «тоховов» в XIX в., свидетельствуя, что многие из тоховов стали благодаря торговле гораздо более богатыми, чем большинство дворян и князей, а поэтому имели возможность позаботиться о своей безопасности.
Непосредственным следствием роста экономической мощи богатой прослойки тфокотлей было усиление их влияния в общинах, где они обычно сосредоточивали в своих руках старшинскую власть. Е. Д. Фелицын указывал, что даже у абадзехов во главе общин, как правило, стояли старшины, обладавшие материальным достатком.
«Демократический общественный переворот», как называли его авторы прошлого столетия, представлял собой чрезвычайно своеобразное и оригинальное историческое явление, всегда вызывавшее большой интерес у исследователей, но с трудом поддающееся изучению. Суть его Заключалась в том, что восставшая масса тфокотлей сумела дать отпор феодальным притязаниям дворянско-княжеской знати, лишить ее старинных привилегий и сохранить свою свободу и общинные начала в организации политической жизни. Нельзя, однако, расценивать это просто как восстановление родовой демократии, хотя бы потому, что «переворота не повлек за собой ликвидации крепостничества. Плоды победы, как сказано было выше, достались экономически сильной старшинской верхушке тфокотлей, которая сумела с выгодой для себя использовать антидворянское движение массы крестьянства и под покровом родовых институтов установить в общинах свое господство. Она даже пошла на откровенный сговор с дворянством, удовлетворившись лишь частичным ограничением его прав и привилегий.
Исследователи и наблюдатели, писавшие о так называемом «демократическом перевороте» у адыгов, не давали ответа на вопрос о его характере и содержании. Одни в романтических тонах рисовали картину установления широкого народоправства, якобы пришедшего на смену самовластию князей и произволу дворянства. При этом они не могли удержаться от вздоха сожаления по поводу упадка старой военно-феодальной аристократии. Другие просто отмечали, что в результате массового движения тфокотлей дворянство стало играть незначительную роль. Третьи, наконец, усматривали в происходивших событиях прямое подобие французской буржуазной революции конца XVIII в.
Не останавливаясь на разборе всех этих мнений, отметим, что и в советской исторической литературе высказывались иногда неверные точки зрения. Отдельные авторы склонны были видеть в борьбе тфокотлей с дворянами и князьями проявление политической активности торгового капитала, выросшего на местной почве. Они приписывали старшинской верхушке роль создателя национального объединения адыгов, так как, по их мнению, в результате происшедшего переворота общество уже было готово к переходу «от племени к нации». Более того, говоря об одном из наиболее острых моментов борьбы тфокотлей против дворянско-княжеской коалиции, известном в исторической литературе под названием Бзиюкской битвы, они объясняли участие в ней русских войск на стороне военно-феодальной знати тем, что «русской буржуазии данная революция была не по нутру», так как она прекрасно знала, что допустить объединение в нацию воинственных — «это значит создать себе врага, которого никогда не победишь».
Конкретная историческая действительность опровергает приведенные точки зрения на «демократический переворот». В то время не существовало еще социально-экономических предпосылок ни для возникновения централизованного государства, ни тем более для буржуазной революции. Движение тфокотлей по своему характеру может быть сопоставлено с ранними крестьянскими движениями против закрепощения периода становления феодализма в Европе. Как известно, эти движения, несмотря на то что они не могли остановить рост крестьянской зависимости, иногда вынуждали господствующие феодальные верхи идти на временные уступки. В отдельных случаях это даже находило свое отражение и в законодательстве.
Однако движение тфокотлей происходило в совершенно другую эпоху и в иной обстановке. Исторические параллели в данном случае могут привести к малообоснованным выводам, и потому необходимо определить специфические особенности этого движения. Такими особенностями, по нашему мнению, были следующие:
1. Военно-феодальной знати, стремившейся к закрепощению тфокотлей, в силу условий местного быта противостоял не безоружный средневековый крестьянин, а свободный общинник, вооруженный огнестрельным оружием.
2. Племенная локальность и существование крепких родовых связей содействовали консолидации сил тфокотлей и их вооруженной борьбе против дворянства своего племени. Дворянам же различных племен, наоборот, было весьма трудно заключать между собой военные союзы вследствие непрекращавшихся распрей между отдельными адыгейскими племенами.
3. Межплеменная борьба, протекавшая одновременно с социальной, сохраняла за дворянством, как за профессиональной военной силой, видное место даже у тех народов, которые пережили «демократический переворот». Сговор со старшинами укрепил позиции дворян.
Вот почему движение тфокотлей завершилось, во-первых, поражением дворянства и ограничением его прав, во-вторых, сохранением его как особой социальной группы, и, в-третьих, движение это способствовало экономическому и политическому возвышению старшин.
Для старшин социальный смысл борьбы состоял не только в уничтожении владельческих прав дворянства, чтобы расчистить путь для собственного возвышения, но и в том, чтобы обеспечить себе возможность в будущем эксплуатировать своих соплеменников в качестве крепостных. Поднявшаяся на гребне антидворянского движения тфокотлей старшинская знать по существу была новой феодальной прослойкой «неродовитого дворянства» в его своеобразном кавказском варианте. Она цепко держалась за право владеть пшитлями и унаутами, но в силу политических обстоятельств временно была вынуждена маскировать свои эксплуататорские тенденции и даже выступать в роли народного трибуна при сношениях с русской администрацией. Эта знать резко отличалась от прежних родовых старшин, хотя и использовала старинные родовые институты адыгов в своих интересах.
Характерно, что отдельные авторы, имевшие возможность наблюдать рост общественно-политической роли старшинской верхушки «демократических» адыгейских племен, отметили и ее феодальные устремления. В этом отношении особенного внимания заслуживает статья Н. Л. Каменева «Бассейн Псекупса» (1867), в которой указывалось, что, став «в уровень с тлекотлешами», влиятельные старшины не прочь были «присоединить к этому званию и права, ему соответствующие». Хан-Гирей сообщал, что старшины пользовались нередко тем же уважением и даже властью, что и дворяне. Автор известных историко-этнографических описаний племен Западного Кавказа Г. В. Новицкий отмечал, что отдельные старшинские семьи иногда оказывали покровительство дворянам, от которых ранее зависели.
По данным М. И. Венюкова, у абадзехов «с изгнанием из 1828 г. князей» выделились богатые и влиятельные роды: Хатуко, Хожа, Цее, Гетау, Куба (Туба), Хопышта, Басирби, Тлышь, Гоша, Шокард, Унорко, Лоу, Шокен, Гиша и Узыба. Все эти 15 родов, писал М. И. Венюков, пользуются почти таким же уважением в народе, как и сами уздени.
Возвышение-старшин нашло отражение и в своде адатов, опубликованном Ф. И. Леонтовичем, где говорится, что «князья как от разных внутренних причин, так и от внешних обстоятельств утратили прежний вес и влияние в народе и те особенные преимущества, которые принадлежали их сану; они хотя не совершенно сравнялись в своих правах с старшинами, но большая половина оных сходна между собою».
Социально-экономической основой возникновения нового слоя феодалов было признанное и зафиксированное адатом равное право всех свободных адыгов на землю и крепостных. Богатая старшинская верхушка, сосредоточившая в своих руках (по праву «почетных лиц») значительное количество земель и большое число крепостных, уже в XVIII в. заняла в системе общественного производства то же место, что и старое дворянство, и находилась по существу в тех же отношениях к средствам производства. Возвышение старшин происходило настолько быстро, что в условиях отсутствия государственности и постоянной межплеменной борьбы военно-феодальная знать не успела и не смогла закрепить за собой исключительное право владения землей и людьми. Старая дворянско-княжеская знать ревниво охраняла свои сословные привилегии. Это приводило к резким столкновениям между двумя слоями феодалов, но общность их классовых интересов и социально-экономической базы создавала в то же время и возможность политических контактов между ними, сговора против массы рядовых тфокотлей и крепостных.
После окончания Кавказской войны формирование новой прослойки феодалов еще не завершилось. Этим в значительной степени и объясняется нечеткость определения ее классового характера в русской официальной переписке и литературных источниках XIX в., а также и сам маловыразительный термин «старшины», употреблявшийся по отношению к представителям данной прослойки. Не случайно поэтому русская военная администрация, которой постоянно приходилось иметь с ними дело, добавляла к термину «старшины» слово «владельцы». Царизм, ориентировавшийся главным образом на князей и дворян, в течение нескольких десятилетий с тревогой следил за происходившей «перестановкой» в социальных верхах. Как царское правительство, так и высшее командование подходили к изменениям в общественной жизни адыгов с точки зрения расстановки классовых сил в крепостной России. Напуганные крестьянским движением, они причисляли к лагерю адыгейской «пугачевщины» всех старшин «демократических племен», не понимая, что упадок старого дворянства отнюдь не означает потрясения основ крепостничества. Чтобы разобраться в происходивших событиях, им нужно было не только время, но, и прекращение военных действий на относительно, долгий срок, а этого произойти не могло, так как Западный Кавказ являлся постоянной ареной военных операций, связанных с экспансией царизма и захватническими устремлениями других держав.
Кроме того, правильно понять суть «демократического переворота» им мешали бесконечные жалобы, князей и дворян на самоуправство «черни», поправшей их древние права, и демагогические заявления о том, что восставшие тфокотли вместе со старшинами собираются установить республику. Было от чего прийти в ужас и ополчиться против «французских лозунгов», неведомыми путями проникших в горные ущелья Кавказа. Даже местная администрация, ближе стоявшая к развертывавшимся событиям и осознававшая, что возвышение старшинской верхушки вовсе не означает буржуазной революции, не решалась игнорировать старую феодальную знать.
В результате царское правительство приютило значительную часть князей и дворян, дав им военные чины, землю и включив их в состав казачьего и армейского офицерства, но оттолкнуло от себя «новое адыгейское дворянство» — старшин шапсугов, натухайцев и абадзехов.
Этим и объясняется позиция старшинских верхов «демократических племен» в последующих событиях на Кавказе, когда они поддержали мюридистское движение, как знамя борьбы против царской России и гарантию сохранения своего экономического и правового положения. Оказавшись вне официальной правительственной опеки, они прекрасно понимали, что подчинение России грозило им не только утратой независимости и политического влияния, но и лишением права владеть пшитлями и унаутами.
(Мюридизм — движение под религиозной оболочкой (проповеди духовного совершенствования на основе мусульманской религии, слепого повиновения своим вождям и наставникам и провозглашения газавата—священной войны против немусульман), в котором соединились два потока: социальный — антифеодальный и политический — антиколониальный. В корыстных целях его пытались использовать султанская Турция, Англия и Франция (см. шестой очерк настоящей работы).)
Старшины и дворяне, не включившиеся в сферу русской правительственной политики и потому не сумевшие завоевать себе прочного положения, сознавали, что распространение реформы 1861 г. на Западный Кавказ приведет к изменению сложившихся там общественных отношений. Эта реформа при всей ее ограниченности оказалась для них гораздо страшнее, чем военные успехи царизма.
Подводя итоги, подчеркнем, во-первых, что «демократический переворот» конца XVIII — начала XIX в. означал новый и при этом весьма своеобразный этап в развитии адыгейского феодализма, который был оборван окончанием Кавказской войны и последующим переселением значительной части адыгов в Турцию. А во-вторых, можно утверждать, что тфокотли, оставаясь в своей массе все еще свободными, находились в рассматриваемое время уже на пути к закрепощению и пополняли собой ряды зависимых людей.
Унауты, пшитли и оги
Адыгейскому обществу были известны три формы зависимости несвободного населения: унауты (рабы), пшитли (собственно крепостные) и оги (феодально зависимые). Эти категории отличались друг от друга как по степени зависимости, так по характеру и числу лежавших на них обязанностей. Еще раз напомним, что право владения зависимыми людьми отнюдь не считалось исключительной привилегией дворянства.
Самой низкой категорией зависимого населения являлись унауты — рабы, не имевшие никаких прав — ни личных, ни имущественных. Труд их был не регламентирован: все время унаута принадлежало владельцам. В силу этого унаут не мог располагать собой. Закон не защищал его. За нанесенные ему обиды и увечья вознаграждение получал его владелец. Унауты были лишены права вступать в брак. За ними признавалось лишь право свободных половых сношений, причем, пока продолжала существовать работорговля, многие владельцы сами содействовали этим внебрачным отношениям унаутов, так как они являлись источником получения дополнительных контингентов живого товара, вывозимого в Турцию. Внебрачные дети не ставились унауткам в укор, и их владельцы, способствуя «незаконному сближению унауток», получали иногда за это некоторую плату от мужчин, которые, однако, не приобретали через это родительских прав над своими детьми. Наделом земли унауты не пользовались и своего хозяйства, следовательно, не вели. Жили они при дворе господина, на его содержании, составляя его дворню, безоговорочно выполняли различные работы по дому и хозяйству своего владельца, «когда и сколько прикажут», и оказывали ему личные услуги.
М. И. Венюков, описывая положение зависимого населения, указывал, что положение низших классов везде тяжелое. Унаут осужден на вечную работу в поле и на дворе за какие-нибудь горькие чуреки и оборванную поношенную одежду. Даже жизнь его зависит от произвола его господина. Оттого рабы и равнодушны к благосостоянию или неудачам их повелителей...
Главной рабочей силой в хозяйстве феодала были пшитли, составлявшие большинство зависимого населения. Пшитль, подобно унауту, являлся собственностью владельца и передавался по наследству. Отличался же он от унаута тем, что имел имущество, семью и вел свое хозяйство.
Собственность пшитля подразделялась на три вида:
1) имущество, данное ему владельцем в виде пособия при водворении в своем ауле или в случае полного обнищания пшитля, приводившего к упадку его хозяйства;
2) имущество, приобретенное самим пшитлем на личные средства;
3) имущество, полученное в виде подарков и по брачным договорам.
Первый вид собственности считался принадлежавшим владельцу пшитля и лишь находившимся в его пользовании. При продаже пшитля другому владельцу это имущество оставалось у его прежнего господина. Источником образования второго вида собственности пшитля были деньги, зарабатываемые им с разрешения владельца на стороне, причем из этих денег в пользу самого пшитля поступала лишь половина, остальное шло его владельцу. Что касается третьего вида собственности, то здесь существовал следующий порядок: подарок, сделанный третьим лицом пшитлю считался его полной собственностью, но если пшитль за это отдаривал со своей стороны хотя бы самым незначительным предметом из имущества, считавшегося владельческим, то подарок считался уже собственностью владельца и последний признавал за пшитлем лишь право пользования им. В силу брачного договора жених обычно должен был подарить родителям невесты корову. Если скот, полученный пшитлем в виде подарка или по брачному договору, не кормился сеном владельца, то пшитль распоряжался им бесконтрольно. Из остального скота, находившегося в его пользовании, пшитль мог зарезать ежегодно одну голову крупного скота или же несколько штук мелкого.
В тех случаях, когда пшитль, уйдя на заработки, пользовался во время работы орудиями своего владельца, при его возвращении владелец получал не половину, а две трети заработанного пшитлем. Если пшитль пас чужой скот на стороне, весь его заработок поступал в пользу владельца, а сам он получал лишь пищу и одежду от нанимателя.
Источники образования и пополнения слоя крепостных крестьян были следующие: происхождение от пшит-лей, покупка, захват в плен,, предоставление унаутам их владельцами права вести собственное хозяйство и долговая кабала свободных общинников-тфокотлей (последнее сделалось в XIX в. одним из главных источников крепостничества).
В ходе разложения общин бедность становится опасным состоянием, влекущим за собой крепостную зависимость. В 50-х годах XIX в. русские власти столкнулись с особой категорией выходцев, которые, по их собственным показаниям, жили за Кубанью «вольно», но, «будучи весьма бедного состояния, с давнего времени страдая голодом», не могли прокормить свои семьи. Боясь, что богатые соплеменники обратят их в крепостных или рабов, они бежали под покровительство России.
Члены обедневших семей свободных тфокотлей особенно часто попадали в крепостную зависимость при. переходе на другое место жительства. Темиргоевский тфокотль Пшемаф Дербе показал на допросе, что после смерти родителей он перешел в другой аул, где вскоре женился на дочери «простого черкеса» и зажил мирной жизнью. Однако это продолжалось недолго. Князь Шумаф Айтеков, воспользовавшись его беззащитностью, продал его абадзехскому старшине Нежуху, а жену оставил у себя. Вслед за тем Пшемаф Дербе был перепродан новому хозяину — натухайцу Сурпаху Туко, от которого лишь через шесть лет сумел бежать в русское береговое укрепление.
Целый ряд аналогичных документов убедительно говорит о том, что обедневший и перешедший в поисках лучшей доли в другой аул свободный тфокотль становился легкой добычей адыгейской военно-феодальной знати и экономически мощных тфокотлей других общин. В показаниях все чаще и чаще встречаются уверения беглецов в их свободном происхождении, в том, что они против своей воли были переведены в крестьянство, отчего бежали под покровительство России.
Пшитли находились в личной поземельной зависимости от господина и несли в его пользу различные повинности. Хорошее представление об этих повинностях и характере их можно получить из слов крестьянина, приведенных в статье «Об отношениях крестьян к владельцам у черкесов» (опубликована в газете «Кавказ» за 1846 г., № 9): «У меня немного ума, но расскажу как умею, что видел своими глазами и что помню хорошо, как себя. Вот наши права: сеем, бывало, хлеба, что господь допустит собрать, половину отдавали нашим владельцам, за исключением выдела зерен на семена. Сено косили для владельцев и для себя, если только могли в этом успеть, а в противном случае делали хаффи (созыв на помощь за утолщение), и владельцы тогда давали скотину на зарез, да и мы не жалели своего запаса по мере наших сил. Жены наши приготовляли пшено по очереди, относили на кухню владельца и стряпали там кушанья. Дрова на топливо возили летом и зимою; за скотом господина смотрели как следует. Когда дочери наши выходили замуж, мы получали от каждого зятя по паре волов и корове, а прочую цену (васе) брали наши владельцы когда из нас кто женился и брал жену из чужой деревни, тогда давал от себя то же самое — пару волов и корову, а остальное платил сам господин. Когда владельцы резали скотину, мы брали себе внутренности, за исключением сала и того, что нужно для колбас. Когда приезжали гости к нашим владельцам и при отъезде своем были одарены ими, тогда мы брали лучшее на них платье... если в распрях наших владельцев с другими господами последние угоняли наш скот, причиняли какой-либо другой ущерб, то господа наши возвращали нам потери, потому что собственность крестьян не считалась собственностью владельцев. В случае, если бы наши господа впали в бедность или постигло их какое-либо другое несчастье, принуждающее продать нас, то они присягою обязаны: не разделять наши семейства, продавать тому, кого мы сами изберем, и ни в коем случае не употреблять противу нас ни лома, ни палок, ни веревок (то есть насилия), а мы с своей стороны присягнули драгоценною книгою (алкораном) не изменять им никогда, если они не нарушат наши права».
Основной обязанностью пшитля была барщина во всех ее видах: полевые и строительные работы, извоз, различные домашние работы, выполняемые крепостным и членами его семьи; если у владельца не было раба — прислуживание в кунацкой, обслуживание гостей и владельца, уход за его женой и др. Помимо барщины, пшитли платили в положенные сроки натуральный оброк зерном и скотом. Обязывая крепостного крестьянина службами и платежами в пользу господина, обычай признавал за пшит-лем и известные права. Во время работы владелец должен был обеспечить крепостного необходимыми орудиями производства и сытно кормить его. При продаже пшитля владелец не имел права разделять семью, в противном случае пшитлю предоставлялось право самому выбирать себе нового господина.
Отношения между крепостным и его владельцем регулировались дефтером (условием), составленным при участии третьих лиц. Установить, когда и при каких обстоятельствах появился у адыгов обычай составления дефтера, невозможно; поэтому приходится ограничиваться лишь констатацией факта его существования. Соблюдение дефтера лежало на обязанности обеих сторон, что не мешало владельцам неоднократно его нарушать, хотя это формально грозило им общественным судом и лишением прав на пшитля. С каждым десятилетием они все меньше и меньше склонны были соблюдать обязательства дефтера и часто вообще игнорировали этот идиллический институт, на основании которого «один должен владеть, а другой повиноваться». Сами современники, говоря об адыгейских племенах, вынуждены были констатировать, что «в настоящее время у них и безопасность крестьянина, и спокойствие владельца не прочнее положения корабля без якоря среди моря». Несмотря на это, многие буржуазные кавказоведы, опираясь на договорные отношения между феодалом и его крепостным, идеализировали положение пшитля. Н. Ф. Дубровин защищал утверждение о близких и даже «почти родственных» отношениях подвластного и владельца у адыгов. «Как ни строго судил крестьянин своего господина при людях,— писал он,— однако он никогда не позволял при себе постороннему лицу произнести о помещике мало-мальски оскорбительное замечание. Крестьянин искони привык считать своим приятелем приятеля своего господина и врагом своим — его врага. За всякое оскорбление своего владельца он вступался как за самого себя и готов был жертвовать даже жизнью». Лучшим доказательством ошибочности этого утверждения являются частые случаи бегства крепостных от притеснявших их владельцев «под покровительство России».
Много интересных сведений, характеризующих социальные отношения в адыгейском обществе, содержится в документах ГАКК. Они, в частности, знакомят нас с обычаем, в силу которого глава знатной семьи отпускал перед смертью одного из своих крепостных на свободу с условием, что последний примет духовное звание и будет молить бога за душу своего владельца.
Отпускаемых на свободу рабов и крепостных их бывшие хозяева снабжали особыми удостоверениями.
Довольно часто у адыгов отпускались на свободу рабы других национальностей, потерявшие вследствие глубокой старости работоспособность. Сведения об этих отпущенниках в русской официальной переписке начинают встречаться с конца XVIII в. под общей рубрикой: «по старости лет увольненными от черкес». Имеющиеся данные говорят о том, что национальный состав унаутов из числа обращенных в рабство пленников был очень пестрый: здесь и польские купцы из Львова, проданные крымскими татарами, и грузины из Тифлиса, армяне, киргизы и др. Пробыв в рабстве несколько десятков лет и свыкшись с участью раба после ряда неудачных попыток бежать, в возрасте 80 — 90 лет они оказывались на свободе. Эти дряхлые старики испытывали чувство полной растерянности и не знали, что с собой делать, доставляя немало хлопот и русскому войсковому начальству.
Третьей категорией зависимого населения у адыгов были оги, находившиеся только в поземельной зависимости от владельца. Так же как и пшитль, ог мог быть продан, но лишь в том случае, если провинился перед господином. В отличие от пшитля он обладал правом перехода. Имущество ога находилось в его полной собственности с правом сохранения даже при переводе ога в пшитля. Преобладающей формой ренты для ога была продуктовая. Он был обязан: платить в определенных единицах посеянной им культуры (кроме кукурузы) за пользование землей, заботиться об удобствах и пропитании гостей владельца, поставлять ему бузу и брагу в праздничные дни, давать часть зарезанной скотины. Помимо оброка ог выполнял и барщину на тех же условиях, что и пшитль, то есть за довольствие от господина.
Итак, в хозяйстве адыгейского феодала применялся труд рабов и крепостных крестьян. Эти последние подвергались различной степени внеэкономического принужде ния. Конкретной формой присвоения прибавочного труда зависимых крестьян была феодальная рента. Для пшит ля это была по преимуществу отработочная рента, для ога — продуктовая. Труд рабов использовался для неограниченных работ по дому и хозяйству господина. Тем не менее мы должны подчеркнуть, что, несмотря на наличие крепостных и рабов, основным производителем все же оставался тфокотль, что являлось выражением незрелости феодальных отношений.
* * *
Подводя итог всему сказанному о социальном строе адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в., можно утверждать, что основой его была сельская община на том этапе ее развития, при котором в отношениях поземельной собственности элементы более древней родовой общины сочетались еще с элементами сельской.
В подобных общинах сохранялось много черт родового строя: коллективное землевладение, обычаи кровной мести, усыновления, побратимства и т. д.
Из двух начал, действовавших в этой общине — индивидуального и коллективного, первое явно брало верх и творило свою разрушительную работу, то есть подтачивало прежние родовые устои и вело к утверждению частной собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Разложение сельской общины сопровождалось вызреванием в недрах общества элементов феодализма.
Устойчивость общины и многих других черт родового строя налагала свой отпечаток на складывавшиеся феодальные отношения.
Очерк второй. Поселение Черноморского казачьего войска на Кубани
Ближайшим соседом адыгов к началу XIX в. являлось черноморское казачество, которое в 1792—1793 гг. было переведено на Кубань из Правобережной Украины для охраны новой русской границы, установленной мирным договором с Турцией в 1791 г.
Прежде всего необходимо заметить, что вопреки довольно широко распространенному в исторической литературе мнению Прикубанье для бывших запорожцев, вошедших частично в созданное в 1787 г. Черноморское казачье войско, вовсе не было той неизвестной территорией, куда они переселялись, якобы почти совершенно не ведая, что их там ожидает.
Уже в 1745 г. правительство Елизаветы Петровны, опасаясь, что наличие большого количества запорожских казаков, занимавшихся рыболовным промыслом на восточном побережье Азовского моря, может вызвать нежелательные осложнения с Турцией, направило запорожскому кошевому атаману указ, в котором писало, что запорожцы живут «по Кубанской стороне моря в шишах, где и стоят немалыми ватагами, и с чего-де опасно, как бы запорожские козаки не могли отвагою учинить проезжающим сухопутно и на судах каких обид, а кубанским людям в рыбном отправлении по учиненной между обеими империями какой в дружбе холодности, а паче напрасных ссор; ... определено: чтоб вы для рыбных ловель по Кубанской стороне моря не в принадлежащие Российской империи места отнюдь не въезжали и тем кубанцам, яко соседним людям, обид не чинили и ссор с ними не имели... и для того построенные шиши все сжечь».
Как и следовало ожидать, требуемых правительством результатов этот указ за собой не повлек и проникновение запорожских казаков на Кубань по-прежнему продолжалось. Вслед за ними во второй половине XVIII в. потянулись сюда купцы и городские мещане, организовавшие на восточном побережье Азовского моря рыболовные и рыбоспетные заводы задолго до официального перехода устьев р. Кубани и Таманского полуострова под власть России. Число этих заводов перед переселением на Кубань Черноморского казачьего войска было довольно значительно, и обслуживались они наемными рабочими из беглых русских, украинских и польских крепостных крестьян, вошедших затем в состав войска.
Некоторые из заводов принадлежали даже целым купеческим компаниям, владевшим крупными капиталами, и были весьма солидно оборудованы. По поводу самочинного захвата черноморскими казачьими старшинами — капитаном Данильченко и поручиком Поливодой в 1792 г. одного из этих заводов, принадлежащего симферопольским купцам: Хас Давидовичу, Давиду Якубовичу и Якову Давидовичу, возникла даже целая переписка. Пострадавшие купцы требовали от войсковых властей не только уплаты им стоимости «заграбленного-оборудования завода, но и возбуждения судебного преследования против указанных старшин, нанесших им при захвате завода оскорбления действием».
Отсутствие документальных данных не позволяет, к сожалению, выяснить характер отношений, существовавших между хозяевами заводов, ногайскими мурзами и адыгейской знатью, с ведома и согласия которых эти заводы возникали и действовали. Несомненно лишь то, что люди, работавшие на заводах, подвергались постоянной опасности захвата в плен. Это видно из того, что в первые годы после поселения войска на Кубани в укрепления Черноморской кордонной линии в большом количестве стали являться бежавшие русские и украинские пленники, захваченные лет за 15—20 до этого «в Фанагорийском острове при Бутазском лимане на рыбной ловле».
Закончив к весне 1794 г. переселение Черноморского войска на Кубань, казачья старшина в лице своих руководителей — кошевого атамана Чепеги, войскового судьи Антона Головатого и войскового писаря Тимофея Котляревекого — поспешила закрепить особым актом свое привилегированное имущественное и правовое положение на отведенной правительством войску земле. Этот акт, носивший название «Порядок общей пользы», был документом, утверждавшим хозяйственную независимость крупного старшинского хозяйства и широкие возможности его дальнейшего развития в прикубанских степях. Одновременно он провозглашал организацию войскового правительства, полностью порывавшего с выборными традициями Запорожья.
Первая статья «Порядка общей пользы» гласила: «Да будет в сем войске — войсковое правительство, навсегда управляющее войском на точном и непоколебимом основании всероссийских законов без и малейшей отмены,— в котором заседать должны: атаман кошевой, войсковой судья и войсковой писарь». Далее «Порядок общей пользы» указывал, что «в отменное воздаяние старшинам яко вождям, наставникам общих сего войска благ при своих футорах с родственников и вольножелающих людей населить дворов и определить под оные земли по прилагаемой у сего штатной росписи».
Земельные владения старшин и богатой рядовой казачьей верхушки согласно «Порядку общей пользы» провозглашались неприкосновенными от каких бы то ни было посягательств.
Что же касается остальной казачьей массы, в частности бездомной служилой казачьей бедноты, то о ней эта «старшинская конституция» говорит весьма коротко, но в то же время и весьма отчетливо: «...по воинской дисциплине ради собрания войска, устроения довлеемого порядка, и прибежища бездомовных Козаков во граде Екатеринодаре выстроить сорок куреней... да и войска при границе поселить куренными селениями в тех местах, где какому куреню по жребию принадлежать будет». Это значило, что вся тяжесть пограничной военной службы ложилась на плечи казачьих низов.
Войсковое правительство в своей деятельности опиралось на подчиненные ему окружные правления, которые должны были стоять на страже устанавливаемого казачьей старшиной порядка и нести полицейские обязанности по его охране. В слащаво-ханжеских тонах им предписывалось «свирепых укрощать, злонравных исправлять, сирот и вдов заступать и во всем им помогать, ленивых побуждать к трудолюбию; для распространения семейственного жития холостых к женитьбе побуждать, не покоряющихся власти и не почитающих старейших по мере преступления штрафовать, а содеявших важное преступление к законному суждению присылать в войсковое правительство».
Характерным моментом «Порядка общей пользы» являлось определение той хозяйственной структуры и тех отношений, которые должны были лечь в основу развития мощного сельского товарного хозяйства на Кубани. Не будучи в состоянии открыто установить на новом местожительстве крепостные отношения, ибо весь ход формирования Черноморского войска шел под знаменем обретения свободы потерявшими ее запорожцами, старшина вынуждена была от них формально отказаться. Этот отказ обеспечивал приток в крупные старшинские и богатые казачьи хозяйства «вольножелающих» людей. Их труд и должен был явиться залогом хозяйственного преуспевания богатого казачьего хозяйства на Кубани и заключал в себе еще немало элементов принудительного характера, вытекавших из долговой зависимости.
Таким образом, рядом с куренными казачьими селениями, расположенными в Екатеринодарском, Фанагорийском, Бейсугском, Ейском и Григорьевском округах Черномории, вырастало мощное старшинское хозяйство с применением труда наемных рабочих большей частью из числа беглых русских и украинских крепостных крестьян, оседавших под именем «вольножелающих людей» и «родственников». Кроме беглых крепостных, в старшинском, а также и в богатом хозяйстве многих рядовых казаков из числа бывших запорожцев в качестве наемников работали и представители свободной казачьей бедноты (сиромы).
Нет сомнения, что старшины, формально отказавшись от применения крепостного труда в своем хозяйстве, в глубине души не теряли надежды воскресить в будущем столь знакомую им практику закабаления неказачьего населения. Авторы «Порядка общей пользы» (Головатый, Чепега и Котляревский) были живыми свидетелями роста крупного помещичьего хозяйства на Украине, да и сами они владели там весьма солидными имениями. Таю, Головатый, переселившись на Кубань, перегнал сюда 15 тысяч принадлежавших ему лошадей, 25 тысяч голов рогатого скота и 500 тысяч овец. Организовав на войсковой земле крупное хозяйство, он продолжал владеть на Украине несколькими десятками тысяч десятин земли и большим количеством крепостных. Здесь уместно напомнить, что формирование Черноморского казачьего войска проходило в своеобразной обстановке. В его состав, помимо настоящих запорожцев, было зачислено большое количество беглых крепостных из разных мест, которых нанимали вместо себя на службу богатые запорожские казаки, не потерявшие еще своего имущества и не желавшие порывать с мирной хозяйственной деятельностью во имя беспокойной военной славы и ратных подвигов. Это обстоятельство нашло, между прочим, отражение и в официальной переписке конца XVIII в., где прямо указывалось, что многие казаки «при собрании сего войска поступили на службу из разных мест Российской империи и Польской области».
Кроме беглых русских и польских крепостных, вместе с богатыми запорожскими казаками и старшинами переселилось на Кубань значительное количество украинских крепостных, бежавших из помещичьих имений. В списках переселявшихся эти беглые крепостные во избежание нежелательных осложнений обычно замаскировывались под именем родственников главы легально переселявшегося на Кубань богатого старшинского или казачьего семейства. Эти люди, будучи вынуждены бросать свое имущество на месте прежнего жительства, с первого же шага пути к обетованным берегам Кубани попадали в тяжелую экономическую зависимость от тех лиц, которые взяли их под свою «опеку». Зависимость эта возрастала с каждым новым десятком пройденных верст, и ко времени прибытия на Кубань заимодавец-опекун мог испытывать приятное сознание, что «родственники» теперь с ним крепко связаны солидными долговыми обязательствами. Оставалось лишь оформить эту зависимость соответствующим юридическим актом, что и было сделано «Порядком общей пользы».
Заметим, что захват старшиной лучших земель, узаконенный статьей 20 «Порядка общей пользы», в правовом сознании ее рисовался как акт вполне закономерный. Как отметил профессор В. А. Голобуцкий, еще в Запорожье старшина пользовалась преимущественными правами при занятии земли, при эксплуатации различного рода предприятий, например мельниц, и в некоторых других случаях. Достаточно указать, что последний кошевоГ. атаман Запорожской Сечи Петр Колнишевский имел на Украине два хутора, две водяные мельницы, большое земледельческое хозяйство и громадное количество скота. Незадолго до ликвидации Сечи он продал сразу 14 тысяч лошадей, после чего у него еще оставалось 638 лошадей, 1307 голов рогатого скота, 12 840 овец, 1069 коз и 96 свиней.
Трудно поэтому согласиться с мнением историка Кубанского казачьего войска Ф. А. Щербины, который указывал, что введение частной собственности на некоторые виды угодий и эксплуатация рабочих сил казака после переселения Черноморского войска на Кубань были естественным следствием уничтожения существовавшей ранее в Запорожье войсковой рады.
Сведения о существовании и в самом Запорожье индивидуальных земельных участков, принадлежавших отдельным казакам, как нельзя более подтверждаются материалами ГАКК.
Таким образом, «Порядок общей пользы» был не чем иным, как программным документом казачьей старшины и верхушки рядового казачества, отчетливо рисующим их давно сложившиеся социально-политические стремления. Эти стремления сводились к тому, чтобы на войсковой земле, отведенной Черноморскому казачьему войску, без помех и конкуренции со стороны великорусских помещиков, в руки которых перешла большая часть земель бывшего Запорожья, построить мощное хозяйство, широко используя труд оседавшего в этом хозяйстве экономически зависимого крестьянского населения. Исторический путь развития такого хозяйства на Кубани объективно становился уже путем капиталистическим, несмотря на то что применявшийся в нем труд всякого рода «вольно-желающих», «вольноживущих» и «родственников» заключал в себе (в особенности в первые десятилетия после поселения войска) немало элементов принуждения.
Поместив служилую казачью бедноту, непосредственно участвовавшую в русско-турецкой войне, в пограничных кордонах, на гребной флотилии и в крепости основанного в 1793 г. города Екатеринодара, войсковое правительство в лице Чепеги, Головатого и Котляревского деятельно занялось размещением остальных переселенцев.
Эти последние, как отмечено выше, представляли довольно пеструю массу.. Часть из них, будучи связана кабальными условиями экономической задолженности с казачьей старшиной и богатыми казаками, прямо оседала в их хозяйствах в качестве батраков. Другие же из числа зажиточных запорожцев размещены были по куренным селениям пяти округов Черномории. Всего было поселено в этих округах 14 374 души обоего пола. Наиболее зажиточная часть переселенцев из числа бывших владельцев запорожских зимовников, перейдя на Кубань с большим количеством скота, подобно старшинам, тоже стремилась осесть в хуторах, расположенных в глубине кубанских степей, подальше от границы.
Войсковое правительство нуждалось в поддержке этой, как она обычно называется в документах, «благомыслящей» части казачества и охотно шло навстречу ее желаниям. Выражалось это в том, что богатым зимовчанам-запорожцам, наряду со старшиной, было разрешено заводить хутора и держать в них свои стада и табуны лошадей.
Нет нужды доказывать, что действительно «лично служившие» в войске во время войны 1787—1791 гг. представители казачьей сиромы, после перехода на. Кубань несшие пограничную службу на кордонах или же работавшие на кабальных условиях в хозяйстве богатых казаков-переселенцев и старшин, в силу своей экономической несостоятельности не могли воспользоваться формально предоставленным им правом заводить хутора и мельницы. Целый ряд документов, относящихся к 1797—1798 гг., говорит о том, что хуторское хозяйство Кубани стало давать значительную товарную продукцию. Об этом красноречиво свидетельствуют официальные данные относительно приезжавших из внутренних губерний России купцов, приобретавших на войсковой земле рогатый скот. На фоне подобных явлений становится понятной и та непреодолимая тяга «в деревню», какая охватила богатых казаков и старшин в первые годы пребывания Черноморского войска на Кубани и вызвала подлинное запустение его административного центра Екатеринодара. В июне 1797 г. войсковой атаман Т. Котляревский, обеспокоенный данным обстоятельством, отдал специальное распоряжение, чтобы казаки и старшины, числившиеся жителями Екатеринодара и в то же время имевшие хутора, «жительство свое с семействами имели непременно в здешнем городе, а в хуторах имели б только своих работников». Серьезных последствий распоряжение, как и следовало ожидать, не имело, и, отстроив наскоро жалкий домишко, а то и простую землянку в Екатеринодаре, хозяин хутора всю свою энергию направлял на благоустроение последнего. Здесь возводились добротные дома и хозяйственные постройки из леса, купленного у адыгов, делались загоны для скота, распахивалась земля, закладывались фруктовые сады и виноградники. Владельцы крупных хуторов обычно имели от одной до двух тысяч голов рогатого скота, столько же лошадей и тысяч по десять овец.
Такой масштаб хозяйственной деятельности требовал значительного числа рабочих рук, и хозяева хуторов стремились получить их любыми средствами. В этом стремлении многие из них проявляли поразительную изобретательность. Помимо укрывания беглых крепостных в хуторах и кошах, маскировки их здесь в качестве родственников, зачисления их в казаки и т. д. отдельные из них умудрялись записывать в казачье сословие даже захваченных в плен во время польского похода 1794 г. повстанцев и использовать затем их труд в хозяйстве.
Ф. А. Щербина в своих работах дает две совершенно противоречивые характеристики хозяйственного уклада черноморских казаков после их переселения на Кубань. Он различает два основных вида поселений, сложившихся в Черномории: курень и хутор — и не без основания пишет, что «курень был поселением административным и хозяйственным вместе, хутор по преимуществу хозяйственным» и что необходимость существования хуторов в Черномории «вытекала из хозяйственных потребностей отдельных лиц, как самостоятельных предпринимателей». Но в «Истории Кубанского казачьего войска» он подчеркивает якобы исключительно «натуральный характер» хозяйства черноморских казаков с экстенсивным земледелием и пастушеским скотоводством, удовлетворявшими лишь непосредственные нужды хозяйства и семьи. Причем этот хозяйственный уклад, по его мнению, был принесен черноморскими казаками на Кубань с Украины вместе с организацией и традициями Запорожья. Последняя оценка, игнорировавшая конкретную историческую действительность, была плодом народнически-националистических воззрений Ф. А. Щербины, столь отчетливо определившихся у него ко времени написания указанного сочинения.
Архивные материалы и литературно-исторические данные не оставляют сомнения в том, что базой мощного товарного скотоводческо-земледельческого хозяйства, развивавшегося на Кубани, было не менее мощное хозяйство богатых запорожских старшин и казаков, сложившееся еще на Украине.
Вкусив сладость свободного накопления и хозяйства, богатый запорожец вовсе не склонен был с ними так легко расстаться. Этим и объясняется та популярность идеи переселения на Кубань, не знавшую помещичьего землевладения, которая придала этому событию характер подлинного «исхода в землю обетованную».
При выходе бывших запорожцев на Кубань в составе переселявшегося туда войска, помещики, вымещая досаду за то, что из рук ускользала столь лакомая добыча, открыто нарушая правительственные распоряжения, грабили их, отбирая скот и имущество. Эта экспроприация происходила в весьма бурных формах. Взбешенные владельцы, которые едва успели получить первые плоды обладания столь экономически мощными «подданными», несмотря на директивные указания правительства, старались их от себя не отпускать.
С этой целью они захватывали их детей, насильно отдавали замуж их жен за своих дворовых, избивали самих казаков. Убедившись после повторных правительственных распоряжений, что закрепостить им бывших запорожцев не удастся, они стали захватывать их имущество.
Несмотря на произвол и грабеж помещиков, переселявшиеся на Кубань богатые владельцы запорожских хуторов и зимовников сумели сохранить все же в своих руках основную часть имущества. Они перегнали на новое место жительства огромные стада рогатого скота, отары овец и табуны лошадей. Вместе с ними двигались и обслуживавшие это хозяйство люди. Это были наемные батраки. Широкое применение наемного труда в хозяйстве богатых казаков Запорожья освещено В. А. Голобуцким в статье «Социальные отношения в Запорожье XVIII в.».
Для зажиточной части казаков-запорожцев переселение на Кубань было средством спасти от катастрофы свое крупное хозяйство, расцветшее под стягом Запорожской Сечи.
Вместе с казаками-хозяевами и их наемными работниками ринулись на Кубань, как указывалось выше, и помещичьи крепостные, бежавшие от своих владельцев. Вслед беглецам летят письма помещиков, направленные кошевому атаману Чепеге, с требованием разыскать их навернуть, «ибо оные никогда в Запорожьи записанными не бывали». Число бежавших крестьян от отдельных помещиков было весьма значительно. Так, владелец слободы Михайловки бригадир Серебряков представил список на 130 семейств бежавших от него «малороссиян» и требовал их немедленного возвращения.
Освоение земель Прикубанья черноморскими казаками на первых порах сопровождались серьезными экономическими трудностями. Вирши, автором которых был, по-видимому, А. Головатый, внушали:
Ой, годи нам журитися.
Треба перестати...
В Тамани жить, вирно служить,
Границю держати,
Рибу ловить, горилку пить
Ще и будем богати...
Но до осуществления этого значительной части новоселов в первые годы после переселения было еще очень далеко. Тот же Головатый, стремясь преодолеть продовольственные затруднения, писал в декабре 1792 г. начальнику Таманского отряда Савве Белому: «Приобретенную в войсковых пределах старшинами и козаками соль продавать закубанским черкесам и от них покупать хлебные семена и вообще вести с ними купеческую коммерцию, обходясь ласково».
Тем не менее положение с продовольствием в первый год было настолько тяжелым, что правительство Екатерины II вынуждено было стать на путь бесплатного отпуска провианта из казны. По распоряжению графа П. Зубова эта бесплатная выдача хлеба переселенцам была продлена до 1 сентября 1794 г. Однако она далеко не удовлетворяла потребностей, и войсковому начальству пришлось разрешить поездки отдельных казаков для заработка хлеба «в Ставрополь и околичные оного места», а также и на Дон.
Постепенно, однако, хозяйство зажиточных казаков, имевшее прочную экономическую базу, стало налаживаться, и уже в ноябре 1794 г. войсковое правительство в особом указе писало: «...переходя сего войска старшины и козаки на жительство производят хлебопашество и скотоводство. Да и не чрез долгое время тем приобрев себе изобилие хлеба и скотоводства, так что по нарядам всегда на службу состоятельны имеют быть». Вслед за этим запрещены и отлучки малоимущих казаков за пределы территории войска на том основании, что «за открытием рыбных ловов всем желающим зарабатывать есть наилучший способ и дабы за сим более о выдаче на таковые заработки в другие наместничества и Донское войско отпусков просьб ни от кого не было, предписать всем полковникам». Последнее распоряжение было направлено к тому, чтобы обеспечить дешевой рабочей силой рыболовные заводы старшин и богатой рядовой казачьей верхушки. Положение работавших на этих заводах рабочих (лямчиков) было крайне тяжелым.
Многие старшины и богатые казаки, освоившись на новом месте жительства, возобновили свои прежние торговые связи и, получая соответствующие паспорта, стали ездить по торговым делам в Екатеринославское, Киевское и Харьковское наместничества, в Донскую область и Ставрополь. Казачья торговая прослойка стремилась основать торговлю и в главном административном центре Черномории — Екатеринодаре. В ноябре 1794 г. войсковое правительство слушало специальное сообщение А. Головатого о проживающих в городе Екатеринодаре «старшинах и козаках, знающих торговлю на разные товары и продукты, так равно и ремесленную разных художеств работу ради распоряжения и дачи им приличных мест на состроение домов». В конце 1794 г. в Екатеринодаре и некоторых куренных селениях были построены первые небольшие кожевенные заводы, работавшие на местном сырье.
Показателем экономического роста хозяйства переселенцев на Кубани явились и первые екатеринодарские ярмарки. Войсковой есаул М. Гулик, донося атаману Котляревскому о ходе торговли на осенней ярмарке 1797 г., писал: «Покровская ярмарка была, можно сказать, богатая; купцов со всех сторон было довольное стечение».
Небезынтересно отметить, что правительственные круги екатерининской России обнаруживали большой интерес к хозяйству вновь осваиваемой территории Прикубанья и ее природным свойствам. П. Зубов лично прислал Головатому два мешка египетской пшеницы, которую просил посеять и по снятии урожая доставить в Петербург с описанием, во сколько и с какою добротою она уродится. Головатый, произведя посев, с удовлетворением доносил Зубову, что «египетская пшеница с помощью божьей выросла в полтора аршина и поспевает... Хлеба — рожь и ячмень — с 8 июня на Тамани жнут, а в протчих по Кубани низменных местах на сих днях жать будут, а траву на сено косят». Этот интерес придворных кругов довольно умело использовался войсковым правительством. Не без задней мысли, подчеркивая место, занимаемое Зубовым при дворе Екатерины, Головатый в обычном для него стиле старшинской казачьей дипломатии пишет: «Ваше высокографское сиятельство Милостивый батьку! Поселившиеся на острове Фанагории верного войска Черноморского старшины и козаки, слава богу, обзаводятся хлебопашеством и скотоводством, но при том желают в рассуждении плодовитой здесь земли обзавести виноградные сады, прошу ради такого размножения Таврической области в Судаке виноградный садок в хозяйственное наше распоряжение».
Само собой разумеется, что добрые отношения войскового правительства Черноморского войска с сановным Петербургом поддерживались не только путем одной бумажной переписки: туда постоянно отправлялись огромные партии балыков и икры. Сотни бочек для икры, предназначенной к отправке, ежегодно заготовлялись в войсковых мастерских с соответствующим внушением мастерам, их делавшим, что бочки должны быть изготовлены отменно, так как они предназначены к «высочайшему двору».
Большое значение в хозяйственной деятельности зажиточных черноморских казаков в первые годы их поселения на Кубани получила также торговля солью, которую они вывозили далеко за пределы Черномории. Торговля эта приняла такой масштаб, что вызвала в 1796 г. даже специальное распоряжение о ее запрещении, так как казна от этого терпела убыток.
Вполне понятно, когда главное внимание старшин и большей части переселившихся казаков было устремлено исключительно на хозяйственное «обзаведение» в осваиваемых ими степях кубанского сельскохозяйственного «Клондайка», вопросы организации военного дела отошли на второй план. Не видя со стороны соседних адыгов никакого стремления вступать в борьбу, а наоборот, наблюдая с их стороны даже желание помочь переселявшимся (снабжали казаков посевным материалом, саженцами плодовых деревьев и т. п.), войсковое правительство не уделяло этим вопросам серьезного внимания. Организовав на протяжении 400 верст по линии Кубани, от ее устьев до Усть-Лабинской крепости, цепь кордонов и пикетов, оно считало свою задачу в этом отношении выполненной. (В Усть-Лабе Черноморская кордонная линия смыкалась с правым крылом Кавказской линии.) Кстати сказать, положение дел на Черноморской кордонной линии в 1794—1795 гг. было настолько мирным, что войсковое правительство сочло возможным убрать с нее всю находившуюся там пехоту и оставить на кордонах лишь небольшое количество конных казаков для разъездов.
На кордонах оставлена была, правда, еще артиллерия, но не потому, что в ней там ощущалась особая необходимость, а просто другого применения ей придумать было нельзя. Что же касается боевых качеств, то многие орудия, входившие в ее состав, уже в это время были безнадежно устаревшими.
Зажиточные казаки, занятые хозяйственной деятельностью, всеми способами старались уклониться от несения кордонной службы. Наиболее простым средством достигнуть этого было выставление вместо себя на кордон нанятого за деньги человека. Это явление, получившее довольно широкое распространение еще в Запорожье, на Кубани достигло пышного расцвета. Выставление вместо себя на пограничную службу наймитов прочно вошло в быт Черноморского войска как официально признанное внутривойсковое установление, которое имело ряд неписаных правил. Одно из них заключалось в том, что отдельное казачье хозяйство, в котором работали два родных брата, могло выставлять только одного наймита. В случае же самовольной отлучки последнего со службы войсковые власти обычно предписывали куренным атаманам принудить «оного козака или его хозяев к отбыванию службы».
Со времени русско-турецкой войны 1787—1791 гг. хозяева наемных казаков, содержа их на собственном коште, получали за это в свою пользу от казны третние и фуражные деньги, полагавшиеся служащему казаку. Войсковые власти по собственному усмотрению освобождали от обязательного выставления военных наймитов офицерских вдов и сирот, ставя об этом в известность куренные общества, в которых они проживали.
Насколько широкое распространение получила на Кубани практика вместо себя на военную службу отправлять наемных людей, можно судить по следующим данным. В сентябре 1795 г. войсковому судье А. Головатому были представлены сведения о дополнительно выставленном от разных куреней контингенте казаков на кордоны «с показанием, кто из оных за себя или за хозяина служит». В списке значится 135 человек, из которых «за себя» служило лишь 40, а за хозяев 95 человек. Эти цифры достаточно убедительно говорят о том, что «хозяины», сидевшие в хуторах, не обнаруживали особенного рвения ратоборствовать на кубанской границе, а предпочитали спокойно заниматься мирной хозяйственной деятельностью.
При первой возможности переселившийся на Кубань зажиточный черноморский казак прекращал фактическое несение военной службы и оседал в курене или в хуторе. В наиболее выгодном положении оказывались, конечно, бывшие богатые запорожские зимовчане (владельцы самостоятельных хозяйств хуторского типа на Запорожье). Они тотчас же по прибытии в Черноморию выставляли на военную службу своих батраков из числа тех, которые перегоняли их стада на Кубань.
Причем особенно характерным для домовитого кубанского хозяина оказалась посылка на кордон наймитами батраков-подростков, не представлявших большой ценности в хозяйстве.
Выставление вместо себя на военную службу наемника, как об этом позволяют судить имеющиеся материалы, было не чем иным, как перенесением на Кубань старой запорожской практики.
Точно так же поступали ремесленники и торговцы; записывавшиеся в Черноморское казачье войско. Казак васюринского куреня Никита Паламарев в 1799 г. указывал в своей биографии, что его казачий военно-служебный стаж исчисляется с 1789 г., когда он записался в Васюринский курень. Состоя в этом курене, он в течение , десяти лет занимался торговлей горячим вином и разными товарами, на службе же он сам со времени вступления в войско не был, а нанимал за себя казака.
Бывшие крепостные, из числа тех, кому удалось достичь известного уровня материального благополучия, тоже стремились поскорее оставить военную службу и выставить за себя наемного человека. Бывший крепостной, казак Медведовского куреня Денис Латенко показывал, что он поступил в 1789 г. в Черноморское войско под Измаилом и участвовал в целом ряде сражений с турками. После окончания войны он вместе с войском перешел на Кубань, где, «отрядив на службу от себя козака... поселясь в городе Екатеринодаре, жительствует».
Дворовый человек орловского помещика Игина Николай Иванов, бежавший на Кубань в 1793 г. вместе с крепостной девушкой того же помещика Натальей Даниловой и двумя другими его крепостными людьми, располагал довольно значительными средствами. Объяснялось это тем, что беглецы захватили помещичьих лошадей, а Наталья Данилова вынесла при побеге из барской спальни шкатулку, в которой оказалось 260 рублей ассигнациями, 25 рублей золотом и серебряной монетой, пара серебряных башмачных пряжек и документы. Документы и золотые монеты они не решились взять, а все остальное увезли с собой. Это дало возможность Иванову, назвавшему себя Трофимовым и записавшемуся по прибытии на Кубань в Васюринский курень, тотчас же нанять в кордонную стражу «для службы на место свое козака, исправивши всем нужным одеянием и купивши ему лошадь со всем козацким убором». Разрешив таким образом вопрос о выполнении своих военных обязанностей, Иванов мирно занялся торговлей «горячим вином». Подобных примеров можно привести несколько десятков.
Значительное количество военных наемников выставляли также и записывавшиеся в Черноморское войско зажиточные переселенцы из соседнего Кавказского наместничества. Это, как правило, были люди, «упражнявшиеся (по официальной терминологии.— М.П.) в чумацком промысле». Придя на Кубань с довольно значительными средствами й записавшись в тот или иной курень, они тотчас же «на место себя на своих лошадях нанимали на кордон козаков». Сами же с полученными от войскового правительства билетами продолжали заниматься прежним; привычным делом, разъезжая по Черномории, Кавказскому наместничеству и Области войска Донского.
Отдельные старшины, следуя примеру богатых, рядовых казаков, также выставляли за себя наймитов, освобождаясь тем самым от обязательной очередной годичной службы в строю. Некоторые из них не только упорно отсиживались в своих хуторах, но и не желали выставлять за себя даже наймитов.
Само собой разумеется, что бесконечно не являться на службу казачий старшина, носивший офицерское звание, все же не мог и, просрочив две-три годичные очереди за счет выставления наемников, вынужден был отправляться на кордон. Прибывши туда со скорбным чувством досады и приятными воспоминаниями о покинутом домашнем уюте, многие из них тотчас же начинали придумывать предлоги для новых отлучек. Излюбленным поводом для отъезда обычно бывало срочное исполнение духовного обета помолиться киевским святыням и «вознести хвалу всевышнему у престола св. Софии». Охваченный благочестиво-молитвенным настроением, старшина оставлял вверенный ему кордон на попечение подчиненных, а сам отправлялся в свой хутор для сборов в дорогу. Однак эти сборы обычно принимали настолько затяжной характер, что часто растягивались до окончания годичного срока командования кордоном. Не без яда писал атаман Т. Котляревский по этому поводу прапорщику Герченку. «Вы со времени прибытия на землю войска не заняты были никакою службой, а следовательно, и имели время выполнить свое обещание, которое Вы теперь поставляете законною необходимостью — единственно ко избежанию с предлагаемой Вам кордонной службы».
Не приходится удивляться, что при таком положении дел боеспособность укреплений Черноморской кордонной линии была ничтожна. Входившие в ее состав кордоны и пикеты с их примитивной системой оборонительных сооружений имели по существу чисто показной характера и могли существовать лишь при том безмятежном спокойствии, какое наблюдалось первое время на кубанской границе. Достаточно указать, что в целом ряде кордонов при проверке их состояния в 1797 г. не оказалось «вовсе пороху и свинцу, почему при случае отражения и действовать нечем».
Главное внимание войсковой администрации первые годы пребывания Черноморского войска на Кубани было направлено не на организацию обороны, поскольку в этом особой необходимости не ощущалось, а на то, чтобы скрыть истинное положение дел от высшего начальства. Отсюда понятно, что для членов войскового правительства неожиданный приезд в Черноморию всякого рода высоких особ был явлением крайне нежелательным. В мае 1797 г. атаман Котляревский обрушился на начальников окружных правлений, упрекая их в том, что они, «узнавши о приезде в здешние пределы генералитов и других знатных особ, не рапортуют о сем... так что здешнее начальство узнает только тогда, когда таковые знатные особы въезжают уже в здешний город». В это время он получил сообщение о предполагающемся приезде какой-то крупной начальствующей персоны из Крыма и дал специальное распоряжение по этому поводу Фанагорийскому окружному правлению. Это распоряжение по своему характеру и стилю, предвосхищая действия персонажей гоголевского «Ревизора», предписывает всему составу Фана-горийского окружного правления «о разведывании о сем иметь всевозможное старание, и, как скоро узнано будет о приближении к границам нашим какого генералитета или кого другого из знатных персон, чрез нарочных коза-ков на почтовых или летучих давать мне заблаговременно знать как можно поспешнее».
И не раз по степным дорогам, обгоняя приезжее начальство, неслись конные вестники в казачьих свитках к Котляревскому в Екатеринодар. Своевременно предупрежденный, этот ловкий представитель казачьей старшины умел расположить к себе сердца приезжих юпитеров чиновной бюрократии и отвести их взор от довольно неприглядной войсковой действительности.
Материальные условия служивших на кордонах наемных людей были весьма тяжелыми. Помимо денежной платы, размеры которой колебались от 6 до 15 рублей в год, они должны были получать от своего хозяина лошадь, седло, одежду, вооружение и продовольствие. Но очень часто случалось, что, «вырядив» на службу наймита, наниматель затем прекращал всякие заботы о нем. В донесениях кордонных начальников войсковому правительству постоянно звучат жалобы на то, что наемные казаки голодают, что провианта «от хозяев тех Козаков не доставлено», что «они претерпевают крайний голод и имеют в рассуждении крайней нужды намерение бежать» или что казаки с кордонов уже бежали, «чему причиною недоставление от хозяев их одеяния и протчих нужных вещей», и т. д.
В результате с кордонов уходила наиболее боеспособная часть черноморского казачества — из бывшей запорожской служилой сиромы и беглых русских и украинских крепостных, вступивших в войско в момент его формирования и прошедших славный боевой путь.
Герои штурма Измаила, заслужившие лестный отзыв А. В. Суворова, уходя с кордонов, искали теперь пропитание на рыболовных заводах старший или же в хозяйстве богатых казаков-хуторян в качестве их сельскохозяйственных рабочих.
Сталкиваясь с фактами постоянного бегства с кордонов военных наемников, начальствующие на них казачьи офицеры усвоили постепенно довольно равнодушное отношение к этим побегам. С эпическим спокойствием сообщали они войсковым властям, что такие-то казаки, такого-то куреня, служившие за таких-то хозяев, захватив их лошадей, бежали, «но куда — неизвестно», а посему они и просят выслать «на место их от вышеписаных хозяев других». Высшая войсковая администрация, естественно, не могла так легко примириться с массовым бег-ством наймитов и применяла по отношению к ним весьма суровые меры воздействия. В декабре 1797 г. есаула Мокий Гулик распорядился провести по всем кордонам Черноморского войска бежавших с Отводного пикета казаков Григория Гаркушу и Филиппа Матвеенко. Эти казаки должны были совершить за свой побег «в страх другим» поистине «крестный путь»! В Екатеринодаре, на базарной площади, им дали «при собрании народном» по 20 ударов киями. В главном — Копыльском кордоне по 10 ударов, а затем, «отправя их за караулом на первый кордон, состоящий при р. Кирпилях, и начиная с оного вниз по Кубани до Черного моря во всех кордонах и при собрании же всех тех кордонов козаков по 10 ударов». Такая мера, по мысли войскового начальства, должна была послужить наглядным уроком для всех тех, кто помышлял о бегстве. Но это не могло изменить настроение казаков, находившихся на службе, ибо положение со снабжением для них оставалось по-прежнему столь же тяжелым.
Войсковому правительству пришлось прибегнуть к снабжению кордонной стражи хлебом, вымениваемым у закубанских горцев. Другого выхода для него не оставалось, так как, несмотря на угрозу экзекуций, служившие на кордонах наемные казаки прямо заявляли, что мириться далее с создавшимся положением они не могут.
Нужда в военных наемниках в течение всех первых лет пребывания войска на Кубани была настолько велика, что атаман Котляревский, пользовавшийся личным расположением императора Павла I, сумел добиться от него даже разрешения принимать в войско «бродяг по ревизии нигде не записанных».
По сведениям, относящимся к 1800—1801 гг., на 26 кордонах и нескольких десятках пикетов Черноморского казачьего войска, вытянувшихся вдоль всего нижнего и среднего течения р. Кубани, число казаков, их охранявших, колебалось от 1677 до 2714 человек. Столь малое количество людей само по себе уже было совершенно недостаточно для охраны четырехсотверстного участка границы. Если же учесть, что почти вся боеспособная часть казачьей бедноты, служившая на них вначале, разбрелась затем по хуторам и рыбным ловлям в поисках куска хлеба, а на кордонах оставались, как правило, юнцы в возрасте от 14 до 16 лет или же дряхлые инвалиды, то станет вполне понятной та в высшей степени пессимистическая оценка, какую дал создавшемуся положению дел генерал Рудзевич.
Не приходится удивляться, что с течением времени для адыгейских дворян, видевших в захвате людей и скота у соседей вполне легальное средство для поддержания и роста своего материального благополучия, положение дел на кубанской границе должно было вызвать большой соблазн. Трудно было ожидать от рядового дворянина, постоянно нападавшего на аулы соседей и продававшего захваченный в них ясыр туркам, чтобы он удержался от желания предпринять то же самое и по отношению к русским селениям, в особенности по отношению к тем из них, где у него не было личных кунаков. Известную роль играла также и антирусская пропаганда, проводимая протурецки настроенными лицами. Этим и объясняется, что всего через 5 лет после переселения на Кубань войсковые власти вынуждены были констатировать резкое изменение военной обстановки на кордонной линии. Извещая куренных атаманов об участившихся набегах закубанских феодалов, новый войсковой атаман Котляревский в 1798 г. писал: «Сему поводом и причины вам довольно известные, что на границу поставлено козаков только тысячу пятьсот человек, да и те почти все наемные, нездоровые и малолетние (подчеркнуто мною.— М. П.), и по причине частых им перемен к войсковому делу не привыкшие».
Столь печальное положение дел на границе атаман Котляревский объяснял следующим образом. «...В рассуждении вышепрописанной слабости нашей пограничной стражи,— писал он,— о коей войсковое общество, ослабев воинским духом и обременив себя житейскими попечениями, а некоторые бесполезной праздной леностию для защиты от закубанского разорения...» Из дальнейшей переписки выясняется, что и полутора тысяч казаков в действительности на кордонах никогда не находилось. Временно спасало положение на границе от набегов лихих ворков, стремившихся к захвату пленников, наличие небольшого количества воинов-профессионалов из числа казачьей служилой сиромы, которые упорно не желали перековывать мечи на орало и под именем пластунов вели охотничье-добычнический образ жизни в пограничной полосе. Попутно заметим, что историки Кубанского казачьего войска обычно относили появление пластунов к XIX в. В частности, Ф. А. Щербина указывает, что наименование «пластун» впервые якобы встречается в официальной переписке лишь в 1824 г. В действительности его появление относится к гораздо более раннему времени. Термины «пластуновать», «пластуны» встречаются в документах еще 1792—1795 гг. и употребляются в значении охотиться-разведывать, охотники-разведчики. Черноморские пластуны в конце XVIII в.— это разведчики-охотники, снабжавшие гарнизоны казачьих кордонов дичью и одновременно добровольно следившие за переправами на реке, сами оставаясь формально вне войсковых соединений. В марте 1797 г. кошевой атаман Черноморского казачьего войска приказал предупредить кордонных, пикетных и разъездных казаков, а «также и пластунов, около кордонов бодающихся», чтобы они беспрепятственно пропустили едущего по реке приверженного «к всероссийской державе» князя Явбук-Гирея.
Однако рассчитывать на одних пластунов, постоянно переходивших вдобавок с места на место, было трудно.
Выходом из создавшегося положения старшинские верхи Черноморского войска считали сокращение числа мелких казачьих хуторов и переселение их владельцев в куренные селения. Совершенно понятно, что это мероприятие диктовалось не столько соображениями военно-административного порядка, сколько стремлением старшин расчистить кубанскую степь от хуторской мелочи, сделав ее достоянием мощного панского хозяйства. Формально же оно обосновывалось тем, что его проведение в жизнь даст возможность производить регулярную разверстку служебных обязанностей и учет их выполнения.
Впрочем, привести в исполнение это было крайне трудно, и принимаемые войсковым начальством меры по сокращению числа хуторов наталкивались на упорное сопротивление.
Не останавливаясь на описании длительной борьбы, развернувшейся вокруг хуторского вопроса, замечу, что к 30-м годам XIX в. старшинам и богатой казачьей верхушке удалось почти полностью монополизировать хутора в своих руках. Хозяева же мелких хуторов были переселены в куренные селения. Интересную характеристику сложившихся в результате этого отношений в области землепользования на Кубани дал в 40-х годах исправлявший должность наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал Рашпиль. 28 июня 1846 г. он писал: «При заселении Черноморского края частная польза предпочиталась общей. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить один поверхностный взгляд на станичные и хуторские селитьбы. Лучшие угодья и приволья заняты хуторами, то есть частными людьми, а станицам, то есть народу, предоставлена местность, не представляющая никаких особенных удобств и выгод: Мало того, хутора окружают, так сказать, содержат в обложении станицы... Вот где должно искать начала этой, так резко видимой в настоящее время в войске потери равновесия народного благосостояния между чиновным классом и народом».
Разумеется, приведенная характеристика далеко не исчерпывает картины аграрных отношений первой половины XIX в. на Кубани. Справедливо обрушившись на богатый панский хутор, Рашпиль не замечает, однако, резкой дифференциации внутри населения самих станиц, которая достаточно отчетливо давала себя чувствовать не только в 40-х годах XIX в., но и значительно раньше.
В последние годы XVIII столетия на Кубань устре^ милось особенно большое количество беглых крепостных из внутренних районов России. Эти выходцы из Тульской, Орловской, Рязанской, Курской, Калужской, Пензенской и других губерний в связи с усилением здесь нужды в военной силе остригались по казачьему образцу под чуприну и совмещали работу в богатом хуторском хозяйстве с военной службою на кордонах. Совершенно понятно, что биографии этих людей, с точки зрения администрации крепостной России, были более чем сомнительны, но отказаться от принятия их в войско было нельзя, и войсковой аристократии приходилось мириться с тем, что знак благородного «лыцарского звания» древнего Запорожья красуется на головах рязанских беглецов, на которых вместе с сиромой ложилась вся тяжесть военной службы:
Потребность в Черномории в рабочей силе и возможность укрывать здесь беглецов были настолько велики, что последовавшие вскоре запретительные распоряжения относительно беглых обычно не достигали цели. Попытки отдельных помещиков самостоятельно разыскивать своих крепостных, укрывшийся в Черноморском войске, также далеко не всегда увенчивались успехом.
В конце того же XVIII в. на Кубани появляются уже и первые крупные партии сезонных рабочих в лице пришлых русских крестьян. Они приходили сюда по билетам, выдававшимся им их владельцами и заверенным уездной администрацией с указанием срока, в продолжение которого им разрешалось проживать «для заработков на войсковой земле». Характерно, что эта категория рабочих использовалась по преимуществу в хозяйстве богатых рядовых казаков. Что же касается старшин, то последние, имея привилегированное положение, упорно искали других путей для роста своего хозяйственного благополучия. Используя полукабальный труд батраков во всех отмеченных выше его разновидностях, они довольно откровенно применяли также и внеэкономическое принуждение по отношению к рядовой казачьей массе. Это принуждение выступало в своеобразной форме безудержного административно-начальнического произвола
В 1797 г. атаман Котляревский вынужден был констатировать, что «окружных правлений начальники (и) наиболее полковник Гелдыш берут сами собой на собственные надобности у обывателей подводы и употребляют казаков для косьбы себе сена и протчие работы, чем им причиняется... крайнее отягощение». Мало того, отдельные старшины применяли даже и телесные наказания, носившие характер обычного помещичьего рукоприкладства с тою разницей, что объектом этого рукоприкладства были не крепостные, а служилая казачья беднота. Тот же Котляревский писал в июне 1797 г. полковнику Радичу, что куренные атаманы жаловались войсковому правительству на неумеренное использование им казаков в его личном хозяйстве, где они, будучи заняты непрерывной работой, «за самое малейшее неисправление в оной наказываются жестоко, чего боясь делают частые побеги»
Если ко всему сказанному добавить самочинный захват старшинами накошенного кордонными казаками сена, продажа которого для последних была существенным подспорьем в их тяжелом материальном положении, то картина получается вполне законченная. Что же касается рукоприкладства, то оно находило широкое применение также и в повседневной служебной строевой практике черноморских казаков.
Хозяйства многих казачьих старшин достигали большой мощности и, втягивая в сферу своей эксплуатации рыбные промыслы, пастбища и пахотные земли, приносили своим владельцам поистине сказочные доходы. Среди документов Краснодарского краевого музея сохранилось стихотворное приветствие, относящееся к началу 40-х годов прошлого века, автор которого, явно подражая пушкинской «Полтаве», превозносит одного из богатейших представителей местной казачьей аристократии. Это произведение дает достаточно верную картину богатого панского хозяйства Кубани описываемого времени.
Богат полтавский пан Кримань,
В его заводы рыболовны
Несут ему несметну дань
С морей, с болот, с лиманов волны.
Кругом Полтавской хутора
И мельницы с его прудами,
И много у него добра: икры, тарани, и сребра —
И наяву и под замками...
Блаженствуй, пан, в роды родов,
Хвала тебе греми повсюду;
Лишь только дай нам балыков
Да паюсной икры по пуду!
Отсутствие статистических данных по вопросу экономики Кубани конца XVIII — начала XIX столетия не позволяет облечь старшинское хозяйство в конкретный цифровой материал. Это же обстоятельство не дает возможности определить и общий удельный вес хозяйства казачьих магнатов в экономической жизни Черномории рассматриваемого времени. Несомненно лишь то, что его вес был весьма значителен.
Владельцы хуторов к половине XIX в. сосредоточили в своих руках такое количество земли, каким не пользовались целые станицы. Мало того, они считали себя вправе «перегонять свои стада с места на место по лицу всей Черномории, где только есть лучший, непотравленный корм».
Они не стеснялись травить казачьи поля, а на зиму сгонять «к Азовскому побережью все крупное скотоводство, могущее прокормиться подножным кормом на богатых и огромных пространствах земли... присвоенных сильными по праву силы».
Цитируемый документ («Замечания на докладную записку черноморского дворянства» графа Евдокимова), автора которого трудно заподозрить в народнически-демократических тенденциях, рисует и многие бытовые черты взаимоотношений между хуторянами и их соседями в таких тонах, какие обычно редко встречаются в официальной переписке. Евдокимов пишет: «Я не буду искать сравнений в истории, но скажу, что паны черноморские не уступают в этом отношении никаким землевладельцам времен прошедших. Обыкновенно хуторской пан с открытием весны уже на коне и с оружием в руках, налетает, гонит и бьет все, что только приблизится к владениям его. Подстрелить, изувечить или загнать в болото несколько голов скота, лошадей или баранов — дело самое обыкновенное. Самые снисходительные... загоняют в базы захваченный чужой скот и держат его взаперти, пока он околеет от голода и жажды, а пани-хуторянки, не владеющие оружием и слабые по природе, поступают иначе, они приказывают, а иногда и собственноручно совершают операции вроде отрезывания сосков у коров или распарывания брюха, в пример и страх другим скотам и их хозяевам».
Обстановка первых лет пребывания Черноморского войска на Кубани, сопровождавшаяся ростом крупного хозяйства старшин и богатых казаков, применявших в нем кабальный труд наймитов, создала своеобразную картину социальных противоречий, которые вылились в волнения 1797—1799 гг., известные в исторической литературе под именем персидского бунта.
Дальнейшая хозяйственная деятельность населения Черномории в XIX в. протекала под воздействием ряда наблюдавшихся в ней специфических факторов. Этими факторами были:
установление торговых связей с горским населением Северо-Западного Кавказа и большой приток мануфактурных товаров из внутренних губерний России;
отсутствие крепостного крестьянства и самого института крепостничества (за исключением небольшого количества дворовых людей, принадлежавших казачьим офицерам и эксплуатировавшихся ими в их хозяйствах);
относительное многоземелье(по сравнению с центральными губерниями России);
большой приток рабочей силы из внутренних областей страны и украинских губерний в богатое казачье и старшинское хозяйство, способствовавший его общему росту и производству продуктов на рынок;
усиленный спрос на продукты скотоводства и рыболовства Черномории на рынках центральной части страны;
наличие удобных морских портов.
По положению об устройстве Черноморского казачьего войска, изданному 1 июля 1842 г., границы Черномории определялись следующим образом: «Черноморское казачье войско занимает все пространство земель, лежавших между восточным берегом Азовского и частью Черного морей, Екатеринославской губернией, войском Донским, Кавказской областью и горскими жителями, от которых оно отделяется рекой Кубанью». Это пространство, занимавшее более 550 квадратных миль,или свыше 3 миллионов десятин земли, вплоть до 60-х годов XIX в. даже не было точно измерено. Войсковые власти, представляя свои годовые отчеты, обычно указывали, что так как «земля Черноморского войска не получила еще надлежащего измерения, то и нельзя определить с точностью, сколько состоит ее под поселением, сколько покрыто лесами, сколько удобной и неудобной».
Основным видом занятий жителей Черномории первых десятилетий XIX в. было промышленное скотоводство, поставлявшее скот и продукты животноводства на продажу.
Подчеркивая преобладающее значение скотоводства по сравнению с земледелием, войсковая администрация писала в 1845 г., что пахотной земли в Черномории насчитывается 183 177 десятин, а сенокосной 2 094 770 десятин, но при этом добавляла, что «на верность сего количества положиться не можно, ибо верного измерения оных до сего времени еще не произведено».
«Порядок общей пользы», обеспечивавший возможность легального освоения старшинами и богатыми казаками крупных участков кубанской степи под их индивидуальные хозяйства, продолжал действовать всю первую половину XIX в., хотя формально даже черноморское дворянство не обладало правом частной собственности на войсковые земли.
Насколько хорошо этот документ отражал желания казачьей верхушки, можно судить по тому, что, несмотря на последовавшую в 50-х годах XIX в. юридическую ликвидацию права вольной заимки земель, на него вплоть до 80-х годов продолжали ссылаться представители войсковой администрации. Так, в 1882 г. генерал-лейтенант Малама, обосновывая отказ разрешить станичным обществам уничтожить сады, рощи, мельницы и т. д., принадлежавшие частным лицам и находившиеся на общинной казачьей земле, указывал, что если в прошлом станичные общества допускали своих членов пользоваться юртовым довольствием по желанию, давая возможность одним домохозяевам обрабатывать сотни десятин земли, а другим-держать тысячи голов скота или же устраивать мельницы, то, следовательно, каждый житель должен признаваться «несомненным владельцем той усадьбы, мельницы или сада, которые он построил или развел».
Мнение Маламы основывалось не только на его личных убеждениях, но и на совершенно определенных правительственных указаниях.
Какое количество земли находилось под хуторским и куренным (станичным) хозяйством в отдельности, установить не представляется возможным, так как такого учета не проводилось.
Многие хутора, возникшие на общевойсковых землях на основании права вольной заимки, выразившегося в принципе занимать землю «по способности» и «кто сколько пожелает», были настолько мощными хозяйствами, что оказывали сильное экономическое влияние на соседние станицы.
Пресловутая общевойсковая земельная община Черноморского казачьего войска, о которой так много писал Ф. Д. Щербина и другие историки кубанского казачества, с самого момента поселения черноморцев на Кубани была по существу лишь понятием юридическим, употреблявшимся в документах для прикрытия факта существования крупных индивидуальных хозяйств, переходивших по наследству от отца к сыну.
Признание войска единой земельной общиной давало возможность старшинам и богатым рядовым казакам на основании права вольной заимки, определявшегося их хозяйственной мощью, осваивать громадные пространства войсковой земли для своего постоянного пользования. Совершенно ясно, что даже при слаборазвитой конкуренции самостоятельное хуторское хозяйство могло вести лишь богатое меньшинство казачьего сословия.
Следует сказать, что земельные отношения в области сельского хозяйства на Кубани находили весьма неточное отражение в трудах историков кубанского казачества. Их работы отличались либо откровенной идеализацией либо объективистско-буржуазной трактовкой этого вопроса. Как правило, все они избегали затрагивать классовую сущность аграрных отношений среди казачества, обходя и затушевывая ее.
Официальная статистики, часто фальсифицировавшая историческую действительность путем выведения так называемых «средних цифр», являлась той базой, на которой основывались их утверждения. В связи с этим нельзя не отметить, что В. И. Ленин критиковал, в частности, и Ф. А. Щербину за некритическое пользование им средними цифрами, которые имели совершенно фиктивное значение.
Взгляды по вопросу о казачьем землевладении на Кубани Ф. А. Щербина изложил в своих работах: «Краткий исторический очерк Кубанского казачьего войска», «Исто--рия Кубанского казачьего войска», «История земельной собственности у кубанских казаков», «Земельная община кубанских казаков».
По его мнению, общинные порядки были принесены черноморскими казаками, переселенными на Кубань, и казачество свое право на землю основывало на древнем обычае коллективного владения и пользования землей, сложившемся еще в Запорожье.
Сам процесс создания сельской земельной общины на Кубани Щербина представлял себе в следующем виде черноморские казаки принесли с собой на Кубань идею коллективной собственности на землю как понятие народ ное и обычное. Этот народный идеал был закреплен правительством Екатерины II, пожаловавшей кубанскую землю в коллективную собственность войска. Таким образом «обычная» идея народного права; полагает он, была Закреплена и официальным правительственным актом.
В праве же вольной заимки земли Щербина видел соединение частного и общих интересов. Он считал, что куренные общества не чинили вначале никаких препятствий частнособственническим устремлениям отдельных членов войскового сословия вследствие многоземелья. Врагом народного идеала, однако, выступила казачья старшина, державшая в своих руках управление войском на основании законодательного акта 1792 г. Исходя из своих эгоистических интересов, старшина стремилась разрушить войсковую общину. Под влиянием развития частного землевладения идея коллективной войсковой собственности постепенно начинает претерпевать изменения, и из этого общего понятия выросло более частное — юртовая (станичная) собственность. Так родилась, полагал Щербина, станичная община, которая в дальнейшем продолжала жить своей жизнью, несмотря на все ухищрения чиновного казачества, направленные против нее.
В этой надуманной схеме Щербины имеется ряд очевидных противоречий. С одной стороны, правительственный акт 1792 г., по его мнению, юридически закрепил народный идеал общины, а с другой стороны, этот же акт легализировал старшинское землевладение, разрушавшее общину. Вольную заимку он склонен был рассматривать как высшее проявление коллективного права на землю и в то же время указывал, что она создала крупных частных собственников — врагов общины.
Исходным пунктом этих противоречий был его предвзято-народнический взгляд на рядовое казачество как на единую народную массу, в которой якобы отсутствовали внутренняя дифференциация и противоречия, в силу чего создавались условия для «мелкого однообразного производства».
Что же касается права вольной заимки, то последняя, по утверждению Ф. А. Щербины, давала полнейший простор приложению к делу труда и накоплению трудовым естественным способом капитала.
Нет нужды доказывать, что вольная заимка в условиях кубанского многоземелья для казачьей верхушки была путем к созданию крупного землевладения и товарного скотоводческого хозяйства. Рост этого хозяйства прикрывался официальным утверждением войскового правительства о том, что в Черноморском казачьем войске земли, «принадлежащей частным лицам, не имеется, а довольствуются чиновники и козаки сего войска вольно и ровно без всякой друг перед другом обиды, занимая войсковую землю под хлебопашество и скотоводство по силе и возможности столько, сколько в свободное от службы время может обработать оной и потребно для сего сенокоса и выгона скота». В резком противоречии с этими утверждениями о «безобидном» пользовании в равной степени всеми членами войскового сословия земельными угодьями Черномории находилось не только занятие лучших земель под свои хутора старшинами и богатыми казаками, но и выдача им войсковой администрацией особых билетов, в которых указывалось, что они могут на войсковой земле, где только пожелают, свободно косить сено для своих стад.
Понятно также, что казачья беднота не имела средств для организации самостоятельного хуторского хозяйства и «сесть хутором» могли лишь экономически мощные семьи.
Народническим воззрениям Ф. А. Щербины следовали и другие исследователи экономической жизни кубанского казачества. Так, Н. С. Иваненко рассматривал начальный период его истории как своего рода золотой век социального равенства, а черноморское казачество как одну большую семью — общину. Во главе этой идеализированной «родной козачьей семьи» стоял «батько» кошевой атаман вместе с выборной казачьей старшиной. Но с течением времени это единство было нарушено «нивелирующим движением жизни», дружная войсковая семья распалась на две резко противостоящие друг другу группы — чиновное и рядовое казачество. Изданное в 1842 г. положение об управлении Черноморским казачьим войском явилось попыткой урегулировать вопрос о землепользовании на Кубани, так как к этому времени в связи с ростом населения куреней стали остро чувствоваться результаты свободной заимки, выражавшиеся в бесконечных столкновениях и тяжбах между куренными обществами и владельцами хуторов, а также между отдельными лицами, заимки которых соприкасались друг с другом.
Отражая в первую очередь служебно-сословные интересы казачьего офицерства, положение установило принцип пожизненного пользования землей в строгом соответствии с занимаемой должностью. Генерал получал 1500 десятин, штаб-офицер — 400, обер-офицер — 200 и рядовые казаки — по 30 десятин земли.
Несмотря на введение этих норм, право вольной заимки фактически продолжало действовать вплоть до 70-х годов XIX в.
«Что терпят от этого права силы простые казаки и даже дворяне, не имеющие хуторов,— писал в 1861 г. граф Евдокимов,— считаю лишним объяснять. Достаточно сказать, что казак, возвратившийся со службы, не находит места; где бы мог вспахать свою бедную ниву, и затрудняется прокормить служивого коня своего. Только из милости, снисходя на слезную просьбу казака, пан позволит вспахать ниву на своей земле или накосить несколько копен сена, и то не всякий; чаще же ка-зак-обиженник зарабатывает себе у пана как наемщик кусок земли на один раз, хотя на владение ею имеет равное право. Сколько жалоб, споров и драк происходит из года в год на одних и тех же местах? Все они кончаются тем, что бедняк как ни имел ничего, так и остается ни с чем. Нет земли, а паны торгуют своею!.. Генерал Рашпиль хорошо понимал это тяжкое зло в крае и, ограждая, по возможности, казаков, хлопотал о скорейшем наделе поземельных участков; но он навлек на себя только ненависть панов, доносы которых и были действительною причиною несчастья его».
В жизненной практике право вольной заимки привело к установлению двух основных способов пользования землей в Черномории — хуторского и царинного.
На общевойсковом земельном пространстве находились курени, хутора и зимовники (коши).
Курень, который с половины 40-х годов XIX в. стал называться станицей, был крупным военно-административным и хозяйственным поселением. Хутор и кош — это поселения, создаваемые хозяйственно-предпринимательской деятельностью богатых казаков и старшин.
До 50-х годов XIX в. в хозяйственной деятельности черноморских казаков преобладало скотоводство, которое, по словам официальных отчетов о состоянии войска, представляло «главный и самым бедным жителям общий предмет хозяйства». B действительности же именно как раз наименее состоятельные казаки раньше других начали распахивать свои царинные участки, поскольку они не располагали скотом и средствами на его приобретение. Куренные же селения настолько были бедны скотом и лошадьми, что казак-станичник, снаряжаясь на службу, всегда почти был вынужден покупать строевую лошадь в табунах хуторян. В 60-х годах в связи с ростом спроса на русский хлеб со стороны ряда стран Европы зерновое хозяйство Кубани резко начинает выходить на первое место. В 1851 г. основанный за два года до этого порт Ейск посетили первые шесть иностранных кораблей, которые вместе с другими грузами вывезли отсюда 8625 четвертей кубанской пшеницы, отправленной в Англию и Францию2, а после временного перерыва, вызванного Крымской войной, вывоз зерна с Кубани получил постоянный характер. В. 1865 г. в одну только Англию было вывезено 250 тысяч четвертей кубанского хлеба.
Потребность в пастбищах и сенокосных угодьях заставляла богатых черноморских казаков постоянно стремиться выселиться из куренных селений в степь.
Если казак или старшина переселялся в степь и там. основывал постоянное хозяйство, то возникал хутор. Если же они переносили туда из куренного селения свои хозяйства лишь частично и временно, то возникали зимовники или коши.
Кош был менее устойчивой формой поселения, чем хутор. Он обычно не имел фундаментальных жилых построек, а только лишь шалаш или землянку для хозяев и загоны для скота.
Позднее появился новый вид кошей, удовлетворявших потребности не только скотоводческого, но и земледельческого хозяйства и расположенных на царинных участках.
Хутор представлял собой постоянное хозяйственное поселение. Всякое перенесение его на другое место требовало больших материальных затрат и сопряжено было с потерями для владельца.
Наиболее крупными хуторами с развитым скотоводческим товарным хозяйством владела черноморская воен-но-чиновничья знать, закрепившая их за собой «на вечно спокойное» владение открытыми листами, выданными ей войсковым правительством.
Из числа рядовых казаков на хутора выселялись, как правило, лишь наиболее мощные хозяева.
Казаки, не поднимавшиеся выше среднего уровня материального достатка, обычно довольствовались общественной толокой для выпаса своего скота и так называемой цариной.
В 1839 г. общее число хуторов в Черномории было 1954, в 1845 г. их насчитывалось 2694, в 1855 г.— 3113, в 1860 г. число черноморских хуторов достигло 3395.
Эти данные говорят о том, что количество хуторов непрерывно возрастало.
Предел их росту был положен в 70-х годах XIX в. размежеванием станичных юртов и разделением царинных земель. До этого времени земельные пространства того или иного куреня определялись хозяйственными потребностями и экономическими возможностями его населения. Сразу за чертой усадебной земли куреня начинался выгон, а за ним шли разбросанные царины отдельных дворов.
Царины представляли собой участки земли, заключавшие пашню, покосы и пастбища для скота во время полевых работ.
Основными отличиями царин от установленных позже казачьих наделов-паев были следующие:
общество куреня не указывало, не отводило места для Царины того или иного двора — местоположение же казачьего поля-пая в станичном юрте всегда было строго определено;
земельная площадь царины не нормировалась куренным обществом, и занимаемые отдельными дворами участки часто имели земельные излишки — норма же паевого надела была строго определена по таксации земли в том или ином юрте;
царина принадлежала казачьей семье (двору) в целом, и оставалось неизвестным, сколько приходится десятин земли на долю отдельных ее членов,— при паевом же пользовании землей становилось точно известно имущественное положение каждого члена семьи в отдельности;
царина отдельного двора обычно располагалась сплошным массивом и делилась на угодья по желанию хозяина; во время летних полевых работ казаки оставляли курень и переселялись на царину вместе со своей семьей — пай же был разбросан в нескольких местах отдельными полосами в разных угодьях станичного юрта;
царина после смерти главы семейства переходила к его наследникам вместе с его станичным домом и имуществом, если же происходил семейный раздел, то делилась и царина при условии, если она была достаточной. В случае же недостатка земли в прежней царине для ведения двух или нескольких новых самостоятельных хозяйств отделившиеся избирали себе свободные участки в общестаничном юрте.
Совокупность всех дворовых царин составляла куренную царину. Куренная царина вследствие постоянной подвижности своих границ, происходившей благодаря изменению количества отдельных царин в ней, также не имела определенной устойчивой пограничной черты. Несмотря на установление в 1842 и 1845 гг. нормы надела для рядового казака Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск в 30 десятин, право вольной заимки вместе с царинным землепользованием продолжало существовать вплоть до окончательного раздела земли на паи всеми станицами, что завершилось лишь в 1893 г.
Офицерская казачья верхушка также не придерживалась норм землепользования, установленных по штатным росписям 1842 и 1845 гг. для Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск, и размеры ее землевладения определялись исключительно экономической мощностью отдельных хозяйств.
Не останавливаясь на освещении вопроса о причинах и обстановке формирования на Кубани станичной казачьей общины с подушным наделом и уравнительными переделами земли, поскольку это выходит за хронологические рамки настоящей работы, попытаемся дать общую характеристику занятий населения Черномории в первой половине XIX в.
Описанная выше система землепользования в условиях относительного многоземелья Черномории давала возможность богатым переселенцам-казакам несколько десятков лет подряд беспрепятственно заниматься разведением скота «собственно черноморской породы, переведенной на Кубань из Запорожья». Товарное скотоводство играло главную роль в экономике края вплоть до половины 50-х годов XIX в., когда земледелие постепенно начало составлять «общий и, после скотоводства, важнейший предмет народного хозяйства».
Богатый казачий хутор уже с первых лет поселения Черноморского войска на Кубани поставлял свою товарную продукцию на внутренние рынки России. При этом владельцы хуторов сами проявляли большую инициативу в деле транспортировки ее с Кубани, не дожидаясь приезда сюда скупщиков-профессионалов. Об этом красноречиво говорит большое количество паспортов, выдававшихся им для проезда в различные губернии «по торговому промыслу».
Скоро, однако, на учрежденные в Екатеринодаре и станицах (куренях) ярмарки стали приезжать русские купцы, закупавшие здесь огромное количество скота и продуктов животноводства. В 50-х годах XIX в. в Черномории ежегодно закупалось в среднем: 30 тысяч рогатого скота, 150 тысяч овец и большое количество шерсти, кож и сала. В особенности широкую известность приобрела на русских рынках черноморская порода лошадей. Их ежегодно продавалось от 14 до 15 тысяч, а с 30-х годов XIX в. они стали поступать даже на заграничный рынок. В 70-х годах главная масса табунных лошадей Черномории ушла в Германию, где во время франко-прусской войны лошадьми черноморской породы обслуживалась почти вся немецкая артиллерия.
Столь крупный масштаб скотоводства с его товарным уклоном сочетался, однако, с крайне отсталыми формами ведения скотоводческого хозяйства, приводившими к постоянным эпизоотиям и падежам. В ноябре 1847 г. Черноморская войсковая врачебная управа писала генералу Рашпилю буквально следующее:
«Скотские падежи в Черномории никогда почти совершенно не перестают, что зависит:
а) от множества скота;
б) от недостатка присмотра за ним — летом скот находится всегда под открытым палящим небом, а зимою, весною и осенью под ненастным, сырым и холодным — большая часть на подножном корму без всякой защиты от ветров; вьюг и метелей;
в) от недостатка зимою корма не только хорошего, но и дурного в изобилии;
г) от невыгодного водопоя, часто из гнилых луж, болот и речек, летом высыхающих, а если из колодцев, то недостаточного по малому числу рабочих для наливания воды и, наконец,
д) от небрежения самих хозяев за заболевающим скотом, не имеющих нужных лекарств, а потому служба ветеринарных врачей в Черномории в отношении скотских падежей состоит только в разъездах по станицам, где есть падеж, в дознании болезней, поражающих скот, и в подании жителям советов и наставлений, которые, однако, редко с точностью выполняются».
К 30-м годам XIX в. относятся первые сведения о торговых оборотах екатеринодарских городских и куренных (станичных) ярмарок.
Согласно сведениям за 1837 г., когда съезд на екатеринодарские ярмарки по сравнению с предшествующими годами был «малозначителен», на них было привезено «российских и азиатских товаров» всего «по средней цене круглым числом на 830 202 рубля 50 копеек». Жители Черномории пригнали «в распродажу» на эти же ярмарки лошадей и рогатого скота на сумму 505 тысяч рублей Лошади ими продавались от 80 до 140 рублей, пара волов — от 120 до 160, пара быков — от 80 до 120 и коровы — от 55 до 75 рублей за штуку.
Сведения, относящиеся к оборотам куренных ярмарок Черномории за тот же 1837 г., дают не менее четкую картину втягивания в общее русло торгово-экономической жизни России этой далекой окраины с ее непрерывно возраставшим за счет переселенцев с Украины и из других мест страны населением, которое к этому времени достигло 120 тысяч человек.
Общая стоимость товаров и скота, доставленных в 1837 г. на ярмарки Екатеринодара и семи прикубанских куреней, выражалась в сумме 7 680 175 рублей 46 копеек.
Население Черномории, продавая свой скот, продукты животноводства и земледелия на ярмарках, покупало у приезжих и местных (постоянно торговавших в куренях) купцов не только сукна и ткани, но и обувь, посуду, железные изделия, мыло, чай, сахар и другие товары.
Мощный поток русских товаров, появившихся у подножия северо-западной части Кавказского хребта, стал, как это видно из материалов, прорываться и в самые горы, быстро вытесняя оттуда товары, привозимые турецкими купцами.
Первое общее официальное описание экономического состояния Черномории относится к 1839 г. В этом году войсковая канцелярия в связи с составлением генеральным штабом квартирной карты России и военно-статистического описания губерний и областей представила статистические сведения о Черноморском казачьем войске. В них указывалось число соляных озер, из которых «в урожайное время приобретается в войсковой доход и жителями Черномории соль», приводились данные о рыбных промыслах и количестве выловленной за
1838 г. рыбы, сведения о посевах хлеба, о получаемом ежегодно количестве кож и т. д. Подчеркивая, что «главнейшую отрасль богатства и доходы вообще жителей Черномории составляют скотоводство и овцеводство», авторы сведений, несомненно приуменьшая действительное количество скота, находившегося, как правило, в руках богатой казачьей верхушки, сообщают, что: лошадей в Черномории насчитывалось всего лишь 75 099, рогатого скота — 93 890, овец — 264 447. Ежегодное увели чение количества лошадей они определяли в 7781 голову, рогатого скота — в 22 328, овец — в 107 240 голов
Что же касается получения продуктов животновод ства, то «приблизительное число кож», снимаемых ежегодно с крупного рогатого скота, цитируемые сведения определяют в 10 420; вывоз овечьей шерсти — в 29 488 пудов 20 фунтов; выручаемую сумму от продажи рогатого скота — в 223 466 рублей, от продажи лошадей — в 138 144 рубля, от продажи шерсти — в 179047 рублей 37 копеек.
Приведя общие данные об огромном количестве рыбы и рыбных продуктов, добываемых на 139 рыбных промыслах казачьих старшин и богатых казаков и исчисляемых в миллионах штук и сотнях тысяч пудов, составители сведений не дали их денежного выражения на том основании, что «вылавливаемая чиновниками и козака-ми сего войска в заводах, им принадлежащих, равно и откупщиком в войсковом Ачуевском заводе рыба поступает от них в продажу большею частию за пределы сего войска... о расходах на материалы и прочее, равно и о вырученной как хозяевами, так и откупщиком Ачуев-ского завода в 1838 г. сумме сведения в войсковой канцелярии не имеется».
В половине же 40-х годов, по официальным данным, стоимость вывозимых за пределы Черномории рыбы, икры, вязиги, жира и клея определялась в сумме 155 120 рублей серебром, на 179 рыбных заводах в 1845 г. работало свыше 3 тысяч человек наемных рабочих с оплатой труда от 30 до 50 копеек серебром в сутки.
В это время сбор пошлин за вывоз из пределов Черномории продуктов животноводства и рыболовства стал составлять постоянный войсковой доход, достигая нескольких тысяч рублей ежегодно. Вместе с другими сборами с «иногородних промышленников», а также за выдачу «иногородним купцам и крестьянам на право торговли в войске установленных свидетельств» он к 1842 г. достиг 440 320 рублей.
Земледельческая деятельность населения Черномории в документах первой половины XIX в. обычно характеризуется лишь в самых общих чертах В частности, в приведенных статистических сведениях о Черноморском казачьем войске за 1839 г. указано, что в Екатеринодарском, Бейсугском, Ейском и Таманском округах ежегодно засеивалось:
ржи 18 490 четвертей
пшеницы 11 820 »
овса 3054 »
проса 3526 »
сена заготавливалось 16 287 550 пудов. Урожайность отдельных хлебов в них показана крайне низкая (ячмень — сам-3,5, овес — сам-3). Несколько выше стоят урожаи ржи и пшеницы, но и они далеки от обычного представления о кубанском плодородии. Согласно сведениям войсковой канцелярии, урожай больший, чем сам-3, обычно собирался только тогда, «когда с начала весны существуют дождевые погоды без вредных поветрий и не бывает отрождения саранчи». По данным годового отчета за 1843 г., в Черномории было посеяно хлеба:
озимого 28 799 четвертей, ярового 40 267 Снято:
озимого 121 791 четвертей ярового 167 750 » Эти сведения сопровождаются замечанием, что «хлебопашество края едва пропитывает местное народонаселение и ввоз хлеба из Кавказской области сделался необходимостью для екатеринодарских рынков и некоторых станичных ярмарок». Следует заметить, что ввозившийся в Черноморию хлеб потреблялся не только ее казачьим населением, но в неурожайные годы в большом количестве уходил за Кубань к адыгам, которые покупали его на русских базарах и ярмарках.
В качестве особо высокого отмечен урожай 1849 г., который дал сам-10, в то время как предшествующий урожай хлебов в 1848 г. был хуже.
Объяснялось это низкой земледельческой техникой, при переложной системе обработки земли, когда беднейшая часть черноморского казачества, в основном именно и занимавшаяся хлебопашеством, использовала крайне примитивные орудия, кое-как взрыхлявшие землю, и не имела в своем распоряжении никаких других средств для повышения урожайности и защиты посевов от вредителей. Положение изменилось в середине XIX в., когда богатая казачья верхушка и зажиточная часть населения куреней также стали переключать свое скотоводческое хозяйство на путь развития земледелия и применять более высокие способы обработки земли.
Основным видом посевов были яровые, потому что «на сей хлеб бывает по времени года надежнейший урожай». Кроме того, выращивались: просо, гречиха, ячмень, овес, чечевица, горох, фасоль, арбузы, дыни, огурцы и картофель.
Разведение картофеля постепенно стало занимать видное место и, составляя «в продовольствии поддержание», уже в 1847 г. дало 14 143 четверти урожая.
Что касается, местной промышленности, то последняя в 40-х годах была представлена восемью кирпичными заводами (производившими до 1 миллиона штук кирпича), одним пивоваренным, суконной войсковой фабрикой и войсковым овчарным заводом.
В пяти больших соляных озерах Черномории (Ясенское, Ахтарское, Ачуевское, Бугазское и Южное) добывалось ежегодно до 900 тысяч пудов соли.
Эксплуатация нефтяных источников в условиях войсковой монополии не давала серьезных результатов и с каждым годом все больше и больше приходила в упадок. В половине 40-х годов XIX в. «способных» к использованию нефтяных источников, оборудованных «внутри плетнями», значилось 33, «неспособных» — без «всяких упрочностей» — 13. Добывавшаяся в них в небольшом количестве нефть шла главным образом на смазывание артиллерийских снарядов и колес на войсковых возах, а остальная продавалась частным лицам на сумму около 3 тысяч рублей ежегодно.
Отчет о войсковой промышленности за 1845 г. констатировал, что эти источники, «никогда не составлявшие прибыточной ветви войскового хозяйства, с некоторого времени не вознаграждают даже расходов, какие употребляются на них».
В 40-х годах XIX в. рядом правительственных распоряжений был сильно затруднен дальнейший приток беглых в Черноморию. Эти распоряжения решительно предписывали пресечение всякой возможности «где-либо гнездиться бесписьменновидным людям». Особенно большую роль сыграло утвержденное 4 ноября 1835 г. Николаем I мнение Государственного совета «О мерах относительно бродяг в Кавказской области и Черномории», в котором указывалось, что «бродяг, задержанных в Кавказской области, не только показывающих себя не помнящими родства, но и всех прочих, какие бы показания они о себе ни делали, если только они окажутся способными нести военную службу, хотя и нестроевую, не обращая в работники к козакам и не ссылая в Сибирь, отдавать немедленно и без всяких розысканий в солдаты, за исключением лишь случаев, когда они окажутся в уголовных преступлениях».
Это обстоятельство, несомненно, отразилось на притоке дешевых рабочих рук в хозяйства старшин и богатых казаков, сильно сократив его. Не случайно поэтому войсковые власти, рисуя в своих отчетах состояние скотоводства Черномории, нарочито подчеркивали, что уменьшение числа лошадей «последовало от продажи, произведенной хозяевами, более от неимения рабочих людей для присмотра оных и частию для удовлетворения нужд своих по хозяйственному заведению».
Очерк третий. Торговые связи адыгов с русским населением Прикубанья и экономическое проникновение России на Западный Кавказ
Русско-адыгейские торговые связи
Изучение материалов, относящихся к вопросу о торговых связях адыгов с русским населением, позволяет утверждать, что между ними, несмотря на препятствия, создаваемые политикой царизма, быстро стал развиваться оживленный торговый обмен, далеко выходивший за рамки официально признававшейся меновой торговли.
Предпосылками развития этой торговли были, с одной стороны, стремление массы свободного населения — тфокотлей, минуя турецких купцов, получать русские промышленные товары за счет сбыта своих изделий и продуктов сельского хозяйства на русских базарах и ярмарках, а с другой стороны, жизненная потребность русского населения Прикубанья в адыгских товарах.
Немалое значение имело также и то обстоятельство, что между рядовым казачеством и адыгами не существовало той непримиримой враждебности, о которой так много писали историки, отображавшие в своих работах правительственный курс царизма. Более того, в отдельных случаях между низами Черноморского казачьего войска и крестьянской массой адыгского населения, находившейся под угрозой закрепощения со стороны своих князей и дворян, даже намечалась возможность своеобразных социально-политических контактов. Наиболее ярко это сказалось в осуждении казачьей сиромой участия русских войск в Бзиюкской битве на стороне адыгейской дворянско-княжеской знати, а также в том, что во время волнений черноморских казаков 1797—1799 гг., известных под названием персидского бунта, казаки, служившие на кордонах, требуя освобождения участников этих волнений, заявили, что если последние не будут освобождены, то они перебьют все войсковое начальство и уйдут за Кубань к горцам. Это заявление было сделано ими, согласно официальному донесению в Петербург перепуганных войсковых властей, в самой категорической форме: «...всех в войске пожалованных старшин вырежемо и, вырезавши оных, пойдемо на закубанскую сторону к черкесам».
В деле экономического проникновения России на Западный Кавказ решающее значение имели развитие в недрах ее крепостнического хозяйства фабричной промышленности и вызревание капиталистических отношений. Стремление к расширению рынка сбыта товаров со стороны владельцев фабрик уже в первые десятилетия XIX в. привело к тому, что русские фабричные изделия, несмотря на военную обстановку и препятствия, создаваемые правительственной системой организации торговли с горцами, стали широко проникать на территорию, занятую адыгами, конкурируя здесь с произведениями европейской промышленности, Эта конкурентная борьба на не завоеванной еще территории Кавказа представляет собой необычайно важную деталь в истории развития русского капитализма.
Переселившиеся черноморские казаки, оказавшись в очень трудных бытовых условиях и не имея налаженных торговых связей с Россией, вынуждены были первое время пользоваться почти исключительно товарами, привозившимися из-за Кубани. 4 сентября 1794 г. войсковое начальство заслушало донесение, в котором говорилось, что «с закубанской стороны привозят разные товары, а именно: шаладжу, сафьяны, набойки разные, бугас и протчее для мены на рогатый скот, на которые товары многие желают сего войска старшины и козаки менять собственной свой скот». Обсудив это донесение, постановило: «Прописанные товары менять позволить с тем, чтобы оные принимать в руки по окурении».
Приведенный документ дает основание думать, что поставщиками перечисленных в нем товаров были не только посредники-купцы, но и зажиточные адыгейские тфокотли, скопившие значительные запасы мануфактурных изделий, закупленных у иностранных купцов. Привлеченные качествами украинского скота, они желали приобрести быков и коров «запорожской породы» для своих стад.
Отдельные же иностранные купцы, державшие до этого в руках значительную часть торговли с адыгами, в момент продвижения русской государственной границы к устью р. Кубани попытались приспособиться к новой политической обстановке. Один из них, «венецианец Илья», с компаньоном греком Синопуло, обосновавшись в Тамани, получил даже от атамана Чепеги разрешение вырубить в войсковых лесах и сплавить вниз по Кубани крупное количество строевого леса. Этот лес был предназначен для постройки в Тамани торговых складов и жилых помещений названных купцов.
Не порывая прежних торговых связей, иностранные купцы намеревались развернуть торговлю и на той территории Прикубанья, на которой обосновалось русское население. Однако в этом они вскоре встретили серьезных конкурентов сначала в лице торгового предпринимателя, казака-черноморца, а несколько позже в лице русских приезжих купцов.
Вслед за казаками-скотоводами, перегонявшими на Кубань отары овец и гурты рогатого скота, и всей остальной пестрой массой населения бывшего Запорожья на Кубань переселялись богатые сечевики, владевшие лавками с красным товаром и ведшие прежде крупную оптовую торговлю шерстью с Крымом и Турцией. Казаки-купцы пользовались весьма солидным авторитетом, И войсковое правительство охотно брало под свою защиту их интересы.
Вполне понятно, что предприимчивый купец в запорожском кунтуше, торговавший в свое время с Крымом и Турцией, не мог ограничиться на новом месте сравнительно узкой сферой деятельности — только лишь на одном правом берегу Кубани, в пределах Черномории, а стремился перенести ее и на адыгейское левобережье, не смущаясь формальным препятствием в виде пограничной черты.
Однако установить торговую монополию в рамках сословно-войсковой организации этим казакам-купцам не удалось, и с течением времени они все больше и больше должны были уступать место бойкому «промышленнику» в лице русского, городского мещанина или русского торгующего крестьянина, приходивших из внутренних губерний России. Уже от 1798 г. сохранились сведения об этих «вольнопромышленниках», постоянно торгующих в Екатеринодаре съестными и питейными припасами.
Острая нужда новых поселенцев в первые годы их жизни на Кубани в хлебе и промышленных товарах очень быстро привела к созданию ярмарочного торга, и Екатеринодар стал центром оживленного товарного обмена. № марте 1794 г. «общество г. Екатеринодара» обратилось в войсковое правительство с прошением, в котором указывалось, что, находя это «для пользы удобным», оно просит возбудить ходатайство об учреждении здесь четырех годовых ярмарок, «а именно — первой марта 25, на благовещение богородицы, второй в июне, на троицын день, третьей августа 6, на преображение господне, а четвертой в первый день октября, на покров богородицы».
Просимое разрешением было дано, и ярмарки стали регулярно функционировать, привлекая большое количество местного казачьего населения, торговцев из внутренних- губерний России, а также и закубанских адыгов с их товарами. Тогда же были учреждены и первые меновые дворы на Бугазе и в Екатеринодаре для постоянной торговли с адыгами.
Необходимость товарного, обмена настойчиво диктовалась прежде всего тем, что в первые годы поселения на Кубани войска начальство не имело возможности обеспечить за счет местных пищевых ресурсов даже тех казаков, которые несли кордонную службу. Необходимый для них хлеб получался почти исключительно путем вымена его на войсковую соль, добывавшуюся в таманских соляных озерах. Мена обычно производилась на Екатеринодарском и Бугазском меновых дворах из расчета «за всякую мерку соли с верхом по две таковых же пшеницы» .
Когда же в сентябре 1797 г. по случаю появившейся за Кубанью эпидемии чумы русское правительство распорядилось эту мену прервать, то войсковые власти настойчиво просили высшие инстанции об отмене этого запрещения, сообщая, что в силу создавшегося положения не имеют «ни малейших способов продовольствовать служащих на пограничной страже Козаков»
Не дожидаясь получения официального разрешения, войсковые власти самовольно возобновили обмен соли на хлеб, производя его ради конспирации ночью.
Скоро, однако, об этом стало известно высшему начальству, и, получив выговор за допущенное нарушение правительственного распоряжения, заместитель войскового атамана Мокий Гулик потребовал прекратить обмин.
Прекращение отпуска соли за Кубань, помимо увеличения продовольственных трудностей в самом войске, крайне неблагоприятно отразилось и на добрососедских отношениях, вызвав ряд вооруженных пограничных столкновений. Дело кончилось тем, что уже в ноябре 1797 г. снова было разрешено возобновить мену хлеба на соль, но только лишь на одном Екатеринодарском дворе под наблюдением и ответственностью войсковых властей и при условии недопущения торговли другими товарами.
Недостаток хлеба в Черномории вызвал оживленную торговую спекуляцию им и привел к появлению группы торговцев, которые, закупая самостоятельно у адыгов хлеб, развозили его затем по казачьим куренным селениям и наживали на этом огромные барыши.
Последние годы XVIII столетия в экономической жизни населения среднего и нижнего Прикубанья ознаменовались развитием оживленной торговли на меновых дворах, ярмарках и базарах.
Говоря о русской торговле с адыгами, Ф. А. Щербина, П.П.Короленко, И. Д. Попко и другие историки сводили ее почти исключительно к одному меновому обмену, обусловленному нуждой русского населения в строевом лесе и топливе, которые выменивались у черкесов на соль. Что же касается ввоза других «горских товаров» в Россию и вывоза за Кубань мануфактурных изделий русского происхождения, то это якобы было исключительно делом предпринимательской инициативы одних армянских купцов, живших среди адыгов.
Не приводя еще ряда аналогичных мнений, позволим себе высказать мысль, что историческая действительность говорит несколько иное. Многие адыгейские князья, дворяне и богатые старшины весьма активно занимались торговой деятельностью, а отдельные из них даже имели собственные морские суда, которые совершали регулярные торговые рейсы в Турцию и вдоль Черноморского побережья Кавказа.
С момента поселения Черноморского казачьего войска на Кубани не только «простые черкесы», но и князья стали обнаруживать самый живой интерес к торговле с русскими. Отдельные из них на лодках доставляли в Екатеринодар крупные партии хлеба и других товаров. Князь Издемир в 1796—1798 гг. имел целую флотилию в количестве десяти больших лодок, которые под охраной его воинов, снабженных оттиском войсковой печати Черноморского войска, регулярно курсировали между Константиновским постом и Екатеринодарской пристанью.
Русская администрация со своей стороны рассмат-ривала предоставление права свободной торговли для адыгейской знати как своеобразную привилегию и поощрение. В 1813 г. герцог Ришелье «во уважение услуг, оказанных России приверженным к оной закубанским владельцем Хануком», предписал атаману Бурсаку беспрепятственно пропускать через Кубань все товары, им перевозимые.
Сохранившиеся списки русских товаров, перевозимых Хануком за Кубань, позволяют составить отчетливое представление о том ассортименте, каким оперировали предприимчивые представители адыгейской знати. В них значатся: парусина, холсты, крашенина, серебряная мишура, китайка, карманные платки, шелк в нитях, юфть, косы, синька, иголки, наперстки, замки, гребешки, зеркала, ножницы, перстни.
При принятии в 1830 г. русского подданства князьями Джамбулетом Айтековым и Магомет-Гиреем Кончуковым им также была разрешена беспрепятственная торговля на войсковых меновых дворах.
В последующие десятилетия XIX в. весьма активную торговую деятельность развили также владельцы при-кубанских аулов, адыгейские князья и дворяне, получившие русские офицерские чины В ведомостях Екатеринодарского частного карантина, Ольгинской карантинной заставы и других карантинных учреждений имеются сведения о товарах, принадлежащих этим офицерам, поступивших в карантины для дезинфекции.
Приведенные факты с достаточной убедительностью говорят о том, что очень многие адыгейские князья и дворяне отнюдь не склонны были считать торговлю занятием «презрительным». Они играли довольно крупную роль также в торговом экспорте рабов в Турцию, который приносил им огромные доходы.
Русские военные власти иногда в виде особой привилегии выдавали отдельным адыгейским князьям и дворянам печать с русской надписью на ней, изображавшей имя владельца. Оттиск такой печати, предъявленный на русских кордонах, служил основанием для пропуска на правую сторону р. Кубани на меновые дворы и в Екатеринодар по торговым делам.
Выдача подобных печатей рассматривалась и русским командованием, и адыгейской знатью как особая милость; и награда.
В первые годы после переселения на Кубань среднее Прикубанье снабжалось адыгейским хлебом значительно лучше, чем северная часть кордонной линии. Объяснялось это тем, что адыги, жившие в нижнем течении Кубани, продавали свой хлеб в Анапе, турецкий гарнизон которой и население питались почти исключительно за счет доставляемых ими продуктов. Это нашло свое отражение в довольно резкой разнице цен, существовавших в конце XVIII в. в Екатеринодарском и Таманском округах. Так, в 1798 г. четверть пшеничной муки в Екатеринодаре и его округе стоила до 4 рублей 50 копеек, а в Тамани и Таманском округе она стоила 7 рублей 25 копеек. Четверть ржаной муки в Екатеринодарском округе стоила 2—2 рубля 50 копеек, а в Таманском округе 3 рубля. Четверть пшена в Екатеринодаре продавалась от 5 до 6 рублей, в Тамани по 8 рублей, овса — в Екатеринодарском округе 2—2 рубля 50 копеек, а в Тамани — 4 рубля 50 копеек.
Русско-адыгейская торговля и регламентация ее царизмом
Первые сведения о товарооборотах созданных в Черномории меновых дворов относятся к 1798 г. От предшествующих лет сохранились лишь отдельные данные о торговле в различных пунктах побережья Кубани, на четырехсотверстном ее протяжении от впадения в море до Усть-Лабинской крепости.
Сведения о ходе торгово-меновых операций на Екатеринодарском меновом дворе за 1798 г. дают довольно отчетливое представление о хозяйственных связях, которые устанавливались между черноморскими казаками и их закубанскими соседями. Помимо хлеба в зерне и муки, которых было ввезено в этом году 17 528 пудов, а также 2426 пудов яблок и груш, адыги поставили в Екатеринодар большое количество деревянных строительных материалов (24 030 кольев для частокола, 3890 брусьев, 1396 бревен, 890 досок и т. д.). Кроме того, они привезли несколько сотен возов хворосту, 1420 обручей для кадушек, 20 лодок, 133 сохи, 154 лопаты, 200 вил, большое количество рогож, 28 ульев пчел, 20 кусков черкесского сукна, 65 бурок, 25 войлоков, несколько сотен коз.
Кордонная стража годами «не замечала» крупных партий товаров, перевозившихся через Кубань, и нужны были, исключительные обстоятельства, чтобы дела о контрабандном провозе получали огласку. Такими обстоятельствами обычно являлись жалобы других купцов, недовольных коммерческими успехами своих конкурентов из числа вновь прибывших в Черноморию торговцев. Отдельные документы позволяют составить представление и о партиях контрабандных товаров, единовременно перевозившихся на русскую сторону.
В июле 1808 г. нахичеванские купцы сделали донос войсковому атаману Ф. Я. Бурсаку на астраханских мещан Давида Хачикова и братьев Тумазовых в том, что они, не желая платить торговые пошлины, провозят контрабандным путем товары из-за Кубани и что очередная партия этих товаров ими будет доставлена в Екатеринодар в ночь на 24-е число. При этом доносители указали и место переправы, находившееся недалеко от Екатеринодарского менового двора.
По распоряжению Бурсака в указанном месте была устроена засада, купцы задержаны и товары их описаны.
Не меньшую роль в контрабандном провозе товаров через Кубань играли также и владельцы дворянских адыгейских хуторов, находившихся на правом берегу р. Кубани. Пользуясь своим привилегированным положением, они развернули в 30-х годах XIX в. оживленную коммерческую деятельность, вступив в тесный контакт с закубанскими купцами.
Совершенно прав был поэтому С. М. Броневский, который еще в 20-х годах XIX в., беря под сомнение официальные сведения о русской торговле с адыгами, определявшие ее в общей сумме 30 тысяч рублей, писал, что, «присовокупив к тому тайные провозы, которые весьма обыкновенны в рассуждении обширных границ, можно, кажется, сию сумму утроить или круглым счетом положить до 100 000 рублей». Мнение Броневского как нельзя более подтверждается официальными данными, относящимися к 1835 г., из которых видно, что количество товаров, провозимых через хутора Пшемафа Тарканокора, прапорщика Беберды, Ханука, ворка Шумафа и других владельцев, было большим, чем количество, которое официально проходило через карантинные учреждения и меновые дворы кордонной линии. Переходя к обзору общих правительственных мероприятий, относящихся к русско-адыгейской торговле, укажем, что в 1810 г. военный министр представил в Комитет министров докладную записку, в которой проводилась мысль о необходимости расширения этих торговых сношений. Это значило, что русское правительство, несмотря на свое стремление поскорее присоединить Кавказ, не могло, однако, не считаться с таким могущественным фактором, как экономика. Кроме того, здесь выдвигалась задача подорвать торговлю адыгов с Турцией.
В октябре 1811 г. были изданы утвержденные Александром I особые правила для торговых сношений «с черкесами и абазинцами». В этих правилах говорилось: «...дабы возбудить сколько можно более сношений и посредством деятельности и выгод торговли внушить народам сим пользу ее и приучить к употреблению наших продуктов и изделии, назначаются два пункта для торговли: один в Керчи — для товаров, привозимых морем из Черномории и Абазии, с полным портовым карантином и таможнею, другой в Бугазе — меновой двор для товаров, привозимых сухим путем». Правила указывали, что закубанские товары, которые будут привозиться в Керчь и Бугаз, должны там беспошлинно обмениваться по установленному тарифу на русские товары, за исключением российских банковых ассигнаций и всякого огнестрельного и холодного оружия, пороха, свинца, железа и стали.
Для общего контроля и наблюдения за ходом этой торговли учреждалась особая должность попечителя с тремя помощниками.
Создание торговых пунктов в Керчи и на Бугазе не означало ликвидации меновых дворов, организованных в Черномории, они по-прежнему находились в ведении войсковой администрации.
Система военно-административного руководства такой отраслью экономической жизни, какой являлась торговля, уже в первые десятилетия XIX в. обнаружила свою несостоятельность. Бесконечные злоупотребления должностных лиц, широкое развитие контрабанды, неумение обеспечить нужный ассортимент товаров и т. д. — все это побуждало войсковое начальство соглашаться на сдачу меновых дворов в откупное содержание. Вместо того чтобы возиться с гребешками, наперстками, иголками, китайкой и прочими «произведениями» российской промышленности, оно предпочитало сразу и без хлопот получить от откупщика определенную сумму денег. Кроме того, откуп имел еще и то преимущество для войсковой администрации, что избавлял ее от сложной бухгалтерской отчетности по торговым операциям. Вот почему уже в 1811 г. наиболее доходные меновые дворы Черномории — Екатеринодарский и Редутский были сданы откупщикам. Откупной контракт был подписан представителями крупной русской торговой буржуазии — «курскими 1-й гильдии купцами Михаилом Алексеевым сыном Сыромятниковым и Сергеем Васильевым Антиномовым».
Предусмотрительно добившись утверждения заключенного ими контракта, эти купцы выговорили себе необычайно выгодные условия. Срок контракта был установлен на 4 года. Сдаваемые им на откуп дворы они принимали по описи со всеми строениями и находившимся в них имуществом. Имевшаяся на складах-дворов соль была оценена по 50 копеек за пуд. Соль же, которую они должны были в дальнейшем получать из таманских войсковых озер, оценивалась по 20 копеек за пуд. Кроме того, им разрешалось самостоятельно покупать соль у казаков по вольным ценам. За войсковой администрацией оставлено было ограниченное право беспошлинного отпуска соли «за услуги горцам» всего лишь в размере одной тысячи пудов в год.
За все эти блага Сыромятников и Антиномов должны были вносить в войсковую казну всего лишь 16 тысяч рублей в год.
На остальных меновых дворах, которые оставались в ведении войсковых властей, торговля продолжала вестись на прежних началах.
В это же время была сделана оригинальная правительственная попытка расширить торговлю при посредстве особых уполномоченных, которые направлялись на Черноморское побережье и вступали в непосредственные сношения с населением, жившим в прибрежных пунктах.
В особенности заметный след оставила деятельность генуэзского уроженца де Скасси. В 1813 г. царское правительство поручило ему завязать торговые сношения с населением, проживавшим в районе р. Пшады, где он заготовил значительное количество леса для нужд русского флота. Позже Скасси выполнял ряд дипломатических поручений русского командования. В 1816 г. он выступил с критикой установившегося порядка отдачи в откупное содержание меновых дворов и доказывал всю невыгоду этой системы. По его наблюдениям, откупщики наживали баснословные барыши, продавая вымененные у закубанцев товары русскому населению.
Все более возраставшее стремление адыгов вести торговлю с Россией заставило войсковое начальство в 1820 г открыть еще один меновой двор, получивший название Александровского или Малолагерного.
После открытия в Керчи торгового порта управление всеми меновыми и таможенными учреждениями на Черном и Азовском морях было поручено де Скасси. С его ведома на Черноморском побережье действовали энергичные пионеры русской торговли — флотские офицеры братья Огненовичи. Отличаясь большой смелостью и сильным оттенком стяжательского авантюризма, они высадились в урочище Пшада, завели здесь кунаков среди старшин и, к великому неудовольствию турецких купцов, стали закупать крупные партии местных товаров, которые по морю отправляли в Керчь. Не ограничившись этим, они в 1823 г. проникли в глубь адыгейской территории.
Одновременно с братьями Огненовичами на побережье действовали еще два российских торговых агента — хорунжий Касий и купец Карл Мольфино. Оба они были отправлены де Скасси в августе 1822 г. из Керчи на купеческом судне в Пшаду и, подобно Огненовичам, вступили здесь в торговое соперничество с турецкими купцами.
Насколько торговые связи с горцами к этому времени стали жизненной необходимостью для русского населения Прикубанья, можно судить по той тревоге, которая стала звучать на страницах официальной переписки по поводу временного перерыва в торговле в связи со вспыхнувшей в 1822 г. за Кубанью эпидемией чумы.
Войсковой атаман Матвеев прямо указал, что с прекращением торговли войско лишилось огромных выгод, а кроме того, оно «имеет нужду в провианте, для продовольствия полков кордон содержащих». Что же касается адыгов, то они, по его словам, «со времени закрытия мены Начали удалять себя от дружеского с нами обхождения».
В октябре 1822 г., ссылаясь на то, что чума за Кубанью почти прекратилась, он настойчиво потребовал разрешения возобновить торговлю и открыть еще один меновой двор у Варениковской пристани. Командующий войсками Кавказского корпуса А. П. Ермолов согласился с доводами Матвеева и разрешил возобновить меновой торг и привоз из-за Кубани хлеба и леса. Одновременно он разрешил пропуск из-за Кубани и армянских купцов с их товарами.
Купцы немедленно воспользовались полученным разрешением и уже в начале 1823 г. доставили из-за Кубани огромное количество звериных мехов, овчин, коровьих, козьих, буйволовых кож и тканей турецкого происхождения.
Значительное количество товаров турецкого происхождения, беспрепятственно перевозившихся через Кубань в Россию, вызвало в начале 30-х годов XIX в. большое недовольство русских купцов, столкнувшихся с серьезной конкуренцией. Они стали буквально осаждать кавказское начальство просьбами о запрещении их ввоза. В результате создавшегося положения А. П. Ермолов в 1823 г. сделал особое предписание, в силу которого указанные товары вместе с их хозяевами должны были под конвоем отправляться из Екатеринодара в Кизлярскую таможню Для взыскания пошлины.
С 20-х годов XIX в. большое значение начинают приобретать и постоянно действующие рынки в Черномории, в частности екатеринодарские базары, которые в указанное время имели свой особый, исключительный колорит. На них можно было видеть и бывших запорожцев, покупающих у закубанского населения лес и съестные продукты; армян и татар, нагружающих на подводы воловьи и буйволовые кожи, и бойкого мещанина из центральных губерний России, продающего горцам иголки, зеркала, гребешки и наперстки. Здесь раздавались разноязычный говор и восклицания, которыми обменивались продавцы и покупатели. Сопровождая свою речь мимикой и жестикуляцией, они довольно быстро приходили к взаимному пониманию. Все это создавало необычайно живую и пеструю картину.
К 1826 г. на правом берегу Кубани в пределах Черномории функционировали шесть меновых дворов: Редутский, Малолагерный, Екатеринодарский, Велико-лагерный, Новоекатерининский и Славянский. Кроме того, на Бугазе существовали в непосредственном соседстве друг с другом еще два меновых двора: один войсковой, а другой казенный — и карантинная таможня.
Войсковая канцелярия упорядочила вопрос о расценках на товары, привозимые из-за Кубани В августе 1827 г она утвердила таксу менового торга, в которой в качестве общего эквивалента выступала соль. Это обстоятельство объяснялось отнюдь не примитивными формами товарного обмена, который якобы только один и существовал в рассматриваемое нами время на Западном Кавказе, и не мифическим неведением адыгов относительно тех возможностей, которые скрыты в денежной валюте, а совершенно другими обстоятельствами. Дело объяснялось тем, что с переходом таманских соляных озер к России адыгское население лишилось необходимой им в большом количестве соли. Турецкие купцы не могли доставлять на берега Кавказа соль в таком количестве, которое удовлетворило бы потребности всего его населения. В годы, когда в силу военных обстоятельств в торговле солью происходили длительные перебои, прибрежные аулы пытались даже выпаривать соль из морской воды, но она получалась крайне дурного качества, и скот отказывался ее есть. Понятно, почему, приезжая на русские меновые дворы, адыги прежде всего спрашивали соль.
Введение свободного торга русскими товарами на меновых дворах, а также введение таксы с расценками товаров вызвало сильное негодование закубанских купцов, находившихся под покровительством влиятельных адыгейских князей и дворян. Они вовсе не желали выпускать из своих рук те поистине сказочные барыши, которые давала им их монопольная торговля в горах вывозимыми из России фабричными изделиями. Доставив из-за Кубани на русскую территорию огромные транспорты горских товаров, они обычно не задерживались с ними в Черномории, а направлялись в Нахичевань, где и реализовали их с большой для себя выгодой. Закупив затем здесь же русские товары, они снова переправлялись через Кубань, перевозя открыто лишь незначительную часть грузов, а остальные отправляя контрабандой. Совершенно естественно, что они всячески старались отвратить население, жившее в глубине адыгейской территории, от непосредственных торговых сношений с русскими, рассказывая всякие небылицы и запугивая его.
Репрессивные меры по отношению к закубанским купцам в значительной степени объяснялись также и тем, что купцы, умышленно отстраняя земляков от непосредственной торговли с русскими, в то же самое время не порывали своих турецких связей в Анапе и Суджук-Кале и выступали в роли политических агентов турецкой администрации.
С целью увеличения ассортимента на меновых дворах за счет товаров, привозившихся на Черноморское побережье из Турции и пользовавшихся довольно широким спросом, войсковые, власти в марте. 1828 г. разослали по всем меновым дворам крупные партии этих товаров, закупленных в Феодосии. Мероприятие, представлявшее собой оригинальный эпизод коммерческой борьбы двух соперничавших держав, нанесло серьезный удар по турецкой торговле в Анапе и Суджук-Кале.
В результате деятельность закубанских купцов была сильно ограничена, но ликвидировать ее полностью не удалось, и купцы продолжали изыскивать новые каналы для ее дальнейшего развития. Одним из таких приемов явился выкуп ими русских пленных. Пользуясь своими связями в горах, они выкупали и доставляли в Екате-ринодар и Ставрополь довольно большое количество пленных, за что, естественно, русским военным властям приходилось с ними расплачиваться. В виде своеобразной компенсации за эти, согласно официальной терминологии, «человеколюбивые подвиги» купцов русскому командованию приходилось смотреть сквозь пальцы на торговые караваны, проходившие вместе с пленными через Кубань, и даже представлять их владельцев к награждению золотыми и серебряными медалями «за усердие».
Для подтверждения факта постепенно возраставшего предпочтения рядовой адыгской массой русского рынка старому, турецкому с его базарами в Анапе, Суджук-Кале и других пунктах Черноморского побережья весьма важны приводимые ниже сведения.
10 сентября 1827 г. на Чернолесский (Новоекатерининский) меновой двор прибыла депутация от шапсугов, живших на реках Иль, Гапль, Бугундир, Антхир и Абин, в лице уполномоченных старшин Хапача и Лепсегача. Депутаты привезли прошение о том, чтобы шапсугам, жившим на этих реках, была разрешена свободная торговля на русских меновых дворах, находившихся против шапсугской территории. В прошении указывалось, что шапсуги находят для себя гораздо более выгодным вести торговлю с Россией, «нежели с турецкою державою, по той причине, что одни только достаточные у них жители могут пользоваться меною от Анапы, доставляя им одно коровье масло, мед и воск. Бедные же, не имея у себя таковых довольствий, должны для необходимых своих нужд в вымене от Анапы лишаться последнего своего имущества. При самых необходимых случаях принуждены будут пустить в продажу детей, что для них невыгодно. От России же они признают удобнейшим и легчайшим способом получать все нужное для себя через вымен леса, лесных овощей, хлеба, рогатого скота и протчего по ближайшей с ними российской черты границы, соседственного обзаведения, хлебопашественного занятия и скотоводства без всякой для них тягости и охотно могут производить мену: и всякий беден останется довольным, если только от России на меновых шапсугских, как-то: Великолагерном и Чернолесском дворах сверх соли будут устроены лавки с товарами: холщовыми, юхтовыми и протчими, которые для них необходимо нужны, и как от России получают просимые от них выгоды, то к присяге анапскому паше не приступят, и что некоторые, от присяжных узнавши об открытых в России меновых дворах, присовокупляются уже к неприсяжным, и по времени от присяги все откажутся для условия в согласии такового производства мены с Россией».
Вскоре прибыла новая депутация шапсугов в количестве 24 человек от имени тех аулов, которые числились официально присягнувшими Турции. Депутаты заявили, что шапсуги отказываются от турецкого подданства и присяги, принесенной ранее анапскому паше, «оставив оную без всякого действия», и желают «мирного и любовного с Россией условия, с тем чтобы пользоваться от России произведением мены разному товару невозбранно без всякой обиды».
Развернувшиеся в апреле 1828 г. в связи с началом русско-турецкой войны военные действия в низовьях Кубани сильно затормозили дальнейший ход торговли. Отдельные представители русского командования из числа сторонников «решительных мер» в момент подготовки военных операций против Анапы близоруко рассчитывали воздействовать на колебавшихся путем прекращения отпуска им соли. Наиболее откровенно эту точку зрения высказал атаман Бескровный, который настаивал на проведении предлагаемой им меры.
Мнение Бескровного нашло поддержку, и торговля на меновых дворах была прервана.
Однако экономические связи адыгейского Закубанья с русским населением Черномории к этому времени настолько окрепли и стали взаимно необходимыми, что полностью прервать их не могли ни официальные распоряжения, ни военная обстановка. Соляная блокада Бескровного очень скоро оказалась прорванной.
Действительно, несмотря на все усилия войсковой администрации, соль уходила за Кубань в столь большом количестве, что адыги во все время военных действий почти не испытывали в ней нужды. Пойманные с поличным должностные лица, купцы и жители станиц, продававшие соль, обычно оправдывались тем, что они будто бы отпускали соль «только приверженным к России князьям и дворянам, и то большей частью не казенную, а свою собственную». Хотя временное прекращение официальной торговли на русских меновых дворах и нанесло, конечно, вред развитию русско-адыгской торговли, но не приходится сомневаться, что если бы русским военным властям действительно удалось осуществить полную блокаду Закубанья в деле снабжения его солью, то это несравненно больше усилило бы экономические и политические позиции Турции на берегах Кавказа, открыв широкую дорогу ввозимой с ее территории соли и другим товарам.
С прекращением русско-турецкой войны и заключением Адрианопольского мира торговля, естественно, была официально возобновлена. Более того, правительство сочло возможным задолго до подписания условий Адрианопольского трактата объявить «закубанским и прочим горским народам, обитающим между Черным и Каспийским морями», полную свободу торговли на русских меновых дворах.
Согласно существовавшему положению соль отпускалась на меновых дворах в Черномории по утвержденной правительством цене — 50 копеек ассигнациями за пуд с надбавкой 10 копеек, шедших в войсковой доход, а лавочные товары с надбавкой 20 копеек на каждый рубль против цены, по которой они покупались.
Одновременно с этим снова была разрешена торговая деятельность армянских купцов на том основании, что запрещение им вести торговлю русскими товарами за Кубанью было сделано в то время, «когда тамошние народы не принадлежали России, ныне же, когда по заключенному с Турциею во 2-й день сентября 1829 года мирному трактату стали сии народы принадлежать России, то нет уже никакого препятствия». С переходом Анапы в состав русских владений здесь был открыт еще один меновой двор для торговли с натухайцами.
Неурожай 1828 г., постигший Закубанье, вызвал усиленный спрос на русский хлеб, и уже в мае 1829 г. была развернута широкая хлебная торговля на целом ряде меновых дворов Черномории. Это способствовало и общему подъему их деятельности.
Тем не менее дело дальнейшего увеличения роста товарооборота подвигалось медленно, что и вызвало тревогу у местных властей, хотя они по-прежнему не могли отказаться от метода воздействия на отдельные аулы и общества путем временного прекращения с ними торговли.
Чиновник Азиатского департамента министерства иностранных дел Кодинец, ознакомившись в конце 1831 г. с положением торговли, прямо указывал, что запрещение мены с шапсугами, произведенное по распоряжению военных властей, «должно быть отяготительно шапсугам, но неоспоримо и то, что жители Черномории испытывают от того гораздо большие невыгоды. Шапсуги, как известно, могут, хотя с трудом, получать от турок через Суд-Жук-Кале и другие места почти все то, в чем они имеют нужду; но живущие в Черномории, как в стране совершенно безлесной, лишаются с закрытием меновых дворов всякой возможности доставать лес для самых необходимейших домашних надобностей».
Скоро выяснилось, что удаленные от Кубани горные адыгейские аулы и аулы, прилегающие к Черноморскому побережью, со времени перерыва русской торговли в русско-турецкую войну 1828—1829 гг. стали получать, мануфактурные товары из Турции.
Действительно, этим перерывом весьма умело воспользовались турецкие купцы, которые соединяли с торговой деятельностью энергичную пропаганду в пользу Турции. Русское командование могло убедиться, что его ошибками в ведении торговли с горцами умело воспользовались враждебные России политические силы.
Таким образом, русской торговле в 30-х годах XIX в. пришлось преодолевать дополнительные трудности.
Атаман Черноморского казачьего войска Заводовский указывал, что «хотя торговля сия с 1829 по 1834 год более нежели утроилась, но оная не достигла еще той степени совершенства, на которой должна быть». Главной причиной этого он считал контрабанду и разрешенный, открытый провоз товаров на русские базары, минуя меновые дворы.
Отстаивая в данном случае интересы войсковой казны, Заводовский, несомненно, выступал против тех новых экономических явлений, которые уже не укладывались в отживавшие рамки войсковой торговой монополии. Однако он был прав в своей оценке деятельности закубанских купцов, которые по-прежнему стремились изолировать основную массу населения Северо-Западного Кавказа от непосредственных торговых сношений с русскими. Указав, что номинальный переход адыгов под власть России по Адрианопольскому миру вовсе не означал еще их фактического подчинения, он отмечал, что закубанские купцы, руководимые жаждой наживы, делают все от них зависящее, чтобы не допустить адыгейских тфокотлей торговать с русскими. Они, по его словам, «не разбирают средств и не жалеют подарков для баев и ворков, которые за ничтожную цену покровительствуют им и продают выгоды простого народа».
Стремясь во что бы то ни стало поднять торговое значение меновых дворов, Заводовский почти одновременно с этим выступил в качестве ярого противника свободной продажи русским населением хлеба адыгам.
Одновременно с этим была ограничена возможность поступления хлеба и через «разного сословия россиян», проживавших в укреплениях. Среди этих людей наряду с семьями военнослужащих были и бойкие русские «вольнопромышленники», которые вместе с дешевым ситцем и миткалем предлагали в нужную минуту и хлеб.
Как и следовало ожидать, ответом на запрещение свободной торговли хлебом явилось большое количество жалоб прикубанских адыгов. Эти жалобы особенно усилились после того, как Заводовский несколько раз конфисковал уже закупленный ими у черноморских казаков хлеб. В результате возникшей переписки командующий войсками Кавказской линии генерал Вельяминов, исходя из военно-тактических соображений, счел нужным несколько ограничить административное рвение Заводовского. Он приказал возвратить задержанный хлеб по принадлежности и впредь не запрещать подобной покупки хлеба.
Постепенно возрастала роль денег, на которые адыги частично покупали русские товары. В 1834 г. на Екатеринодарском меновом дворе они уплатили за часть купленных ими товаров 7932 рубля. В Усть-Лабинской карантинной заставе за «казенную соль» они уплатили деньгами 895 рублей 50 копеек, жителям станицы Усть-Лабинской за купленные у них товары — 150*3 рубля 20 копеек. С 1835 г. в отчетах смотрителей меновых дворов появляется новая специальная графа под заголовком «продано горским народам на наличные деньги». Причем, вопреки довольно прочно установившемуся в исторической литературе мнению о якобы почти исключительно меновом характере русской торговли с адыгами, на деньги продавались не только мануфактурные товары, но и соль.
Так как соль на меновых дворах Черномории отпускалась вдвое дешевле, чем на меновых дворах Кавказской линии, то адыги, жившие в районах Закубанья, прилегавших к Усть-Лабинскому, Прочноокопскому и даже Баталпашинскому меновым дворам, ездили покупать ее в Черноморию.
Постепенно русские деньги начинают играть все более и более крупную роль в торговле, и, как отмечают современники, к половине XIX в. они оказались в большом спросе у самых различных народов, особенно русские рубли, которые вытеснили холст, скот, соль, служившие средством обмена [6, 18] Более того, в годы Крымской войны союзное командование вынуждено было покупать необходимые ему продукты и фураж исключительно на русские серебряные рубли, а так как последних не хватало, то оно стало на путь изготовления и выпуска фальшивых русских денег.
Общий оборот меновых дворов в 1835 г. на пространстве от Анапы до Усть-Лабинской крепости выразился в крупной сумме— 193811 рублей 68 копеек серебром. Привезено было адыгами своих товаров на меновые дворы на сумму 117450 рублей 83 копейки. Стоимость русского вывоза официальные данные определяют в 76 360 рублей 85 копеек. К 1839 г. этот оборот еще более увеличился. Через Екатеринодарский карантин горцы вывезли своих товаров на 175 203 рубля 78 копейки. Русских товаров было пропущено на 100 912 рублей 75 копеек.:
На данном уровне торговля оставалась в течение нескольких лет, давая относительные колебания в зависимости от различных обстоятельств.
Если к сказанному прибавить не могущую быть учтенной стоимость товаров, проходивших через Кубань, минуя меновые дворы, которая во всяком случае была не меньше стоимости товаров, через них открыто провозившихся, то можно судить, каких серьезных размеров достигла «горская торговля» в 40-х годах XIX в.
Возрастал и ассортимент отпускавшихся товаров, в числе которых видное место начинают занимать чай, сахар, пряности, шелк, вата.
Со стороны русских покупателей все больше увеличивался спрос на продукты адыгского животноводства и охоты, в то время как спрос на лесные материалы занимал относительно скромное место. Согласно сведениям, представленным в 1847 г. командующим Черноморской кордонной линией в канцелярию наместника Кавказа, общая стоимость ввозимого в 40-х годах XIX в. леса составляла сумму всего лишь от 4178 рублей 65 копеек до 20 029 рублей 80 копеек серебром
Характерным явлением, которое нельзя не отметить, говоря о развертывании торговли в 40-х годах XIX в , было появление на русских меновых дворах, базарах, ярмарках мелкого адыгейского торговца. Как правило, это был зажиточный бжедухский тфокотль, специализировавшийся на торговой деятельности. Уплатив курмук своему князю или дворянину, он сначала робко, а затем все более и более энергично начинал доставлять на правый берег Кубани товары. Сохранившиеся описи отдельных партий этих товаров позволяют судить и о масштабе торговли. В перечне товаров, доставленных в 1839 г. в Екатеринодар «простым черкесином» Жанетлем, значатся: «...кож бычьих и коровьих 131, буйволиных 9, овечьих и козьих 280, заячьих 20, кошечьих 9, сала говяжьего 1 пуд, воску 20 фунтов». В феврале следующего, 1840 г. «черкесин» Баук Хападже привез в Екатеринодарский карантин «для очищения»: кож воловьих и коровьих 100, буйволовых 50, овечьих 60, масла 12 пудов, меду 11 пудов, воску 4 пуда, рогож 30 штук.
К началу 50-х годов таких торговцев, постоянно приезжавших с товарами на русские рынки, насчитывалось уже несколько десятков.
Чем больше росла торговля с горцами, тем очевидней становилась несостоятельность войсковой торговой организации в виде меновых дворов. Как их смотрители, так и сама высшая войсковая администрация не могли наладить и организовать оптовую закупку русских фабричных товаров из первых рук, а приобретали у местных торговцев, что, естественно, очень сильно повышало цену. Выходом рисовалась другая перспектива, а именно — новая отдача меновых дворов в откупное содержание В 1835 г. Заводовский, убедившись в невозможности удержать товарный поток на Северо-Западном Кавказе в узком и обветшалом русле каналов меновых дворов, представил свои соображения по этому вопросу.
Откуп, по мнению Заводовского, должен был дать войску гораздо больший и при этом верный доход. Кроме того, чиновники и казаки, занятые службой на меновых дворах и получавшие за это скудное жалованье, были бы освобождены и использованы с большей пользой.
Откупная система, избавлявшая войсковую администрацию от торговых хлопот, передавала в то же время адыгскую торговлю в руки алчных спекулянтов.
Ясно было одно: как прежняя система меновой торговли на базе войсковой монополии, так и откупная система к 40-м годам XIX в. были уже дырявыми мехами, сквозь которые упорно просачивалось капиталистическое торговое предпринимательство. Уходил в прошлое и закубанский горский купец, прокладывавший себе дорогу через Кубань на русские рынки. В предгорья Кавказа уже проникали изделия русских фабрик, владельцы которых требовали более гибкой торговой организации. В 1846 г. московские фабриканты поставили перед правительством вопрос об утверждении в Закавказском крае «Депо русских мануфактурных изделий» для производства торговли с адыгами. Это было прелюдией того экономического завоевания Кавказа Россией, о котором впоследствии писал В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России».
Русские купцы привозили лучшие сукна фабрик Карловской, Соколовской, Алексеевской, Горячкина и Попкова; ситец фабрик Каретникова, Тюриных, Пискина и Бабурина; нанку фабрик Морозова, Зубова, Елисеева; платки фабрик Тюрина, Ивановского; российскую китайку Андриана Липецкого; простую нанку и пестрядь фабрик Зубова, Расстригина и Прохина; шелковые изделия фабрики Залогина; сахар заводов Берда, Пономарева, Пивоварова.
В связи с утверждением 1 июля 1842 г. «Положения о Черноморском казачьем войске» войсковому правлению было предложено составить правила для меновой торговли:
Данные правила, введенные в 1846 г., представляют значительный интерес, потому что подготовлены на основании фактически установившегося порядка торговли и являются его отражением. Остановимся на них несколько подробнее. Правила состояли из 108 отдельных параграфов и детальным образом регламентировали меновую торговлю. Войсковое правление вопреки тем новым экономическим явлениям, о которых речь шла выше, по-прежнему придерживалось принципа незыблемости войсковой торговой монополии и декларировало, что торговля с горцами «должна происходить под непосредственным наблюдением и покровительством, так сказать, под опекою войскового начальства и не может быть предметом торговых предприятий и промыслов частных людей». В силу этого, по мнению авторов цитируемого документа, торговля не может производиться в любом месте «пограничного Кубанского рубежа», а должна быть обязательно сосредоточена на семи меновых дворах, расположенных на четырехсотверстном протяжении течения р. Кубани в пределах Черномории.
Надзирателями и распорядителями торговли на меновых дворах назначаются войсковые офицеры. В карантинном отношении войсковые дворы должны состоять в ведении Екатеринодарского карантина, который производит таможенный осмотр отправляемых за Кубань товаров. Главнейшим предметом отпускной торговли по-прежнему оставалась соль. К второстепенным предметам от пуска правила относили: холст, шелк, бумагу; шелковые, бумажные и пеньковые ткани; нитки простые, серебряные и золотые (канитель); выделанные кожи, сафьян, сукно, шерстяные изделия; зеркала, сундуки, мебель; посуду стеклянную, фарфоровую, каменную, чугунную и медную; самовары, сахар, чай, кофе, конфеты, пряники, свечи, мыло, пряные и красильные вещества.
Железо и сталь в кусках и изделиях (но не в виде оружия) должны были отпускаться закубанцам каждый раз по особым письменным разрешениям командующего кордонной линией.
Попутно заметим, что вопрос о ввозе металлов и металлических изделий постоянно являлся причиной пограничных недоразумений и осложнялся разноречивыми распоряжениями военного начальства.
Основным предметом адыгского привоза на меновые дворы правила называют лес и лесоматериалы. К второстепенным они относят: лошадей, овец, рогатый скот, кожи, шерсть, волос, сало, кость, рога, шкуры зверей, перья, пух, масло, сыр, хлеб, кукурузу; плоды и овощи, мед, воск, мыло, табак, рогожи, изделия из дерева и тростника, войлоки, бурки, сукно, седла, конскую сбрую, камень; пряные, лекарственные и красильные растения.
Категорически запрещалось отпускать за Кубань с меновых дворов банковые ассигнации, депозитные и кредитные билеты, огнестрельное и холодное оружие, порох, селитру, пули, свинец и кремни для ружей.
Хлеб мог отпускаться за Кубань не иначе как по особым распоряжениям военного начальства в случае голода в аулах.
Соль доставлялась на меновые дворы из войсковых озер посредством подрядов с торгов или путем частного найма. Товары же смотрители меновых дворов совместно с войсковым казначеем должны были покупать в Екатеринодаре в лавках частных торговцев.
Смотрителям меновых дворов вменялось в обязанность заботиться о расширении меновых оборотов.
Новинкой были жалобные книги, хранившиеся у комиссаров меновых дворов. Правила решительно запрещали смотрителям и комиссарам меновых дворов покупать что-либо для себя лично из привозимых товаров, «даже по ценам, таксою определенным». В виде компенсации за соблюдение столь суровой добродетели смотрители меновых дворов должны были получать 4%, а комиссары 6% со всей чистой прибыли от годичного торгового оборота. Такса на адыгские товары, привозимые на меновые дворы, устанавливалась особой комиссией. Эта комиссия создавалась ежегодно 1 октября во время екатеринодарской Покровской ярмарки и имела весьма оригинальную структуру. Войсковой атаман приглашал на Екатеринодарский меновой двор всех членов войскового правления, затем семь (по числу меновых дворов Черномории) «почетных черкесских старшин и столько же простых людей, известных особенною промышленною деятельностью из разных аулов бжедухских племен, при двух или более муллах, достаточно знающих турецкий и арабский языки, смотрителей всех меновых дворов и трех более почетных екатеринодарских торговцев от трех торговых каст: русской, армянской и казачьей».
К моменту прибытия, комиссии на меновой двор смотритель его подготавливал выставку образцов всех товаров, которые привозят из-за Кубани. Осмотрев выставленные образцы, комиссия устанавливала цены на все виды товаров и их обменный курс на соль. Протокол решения комиссии составлялся в двух экземплярах. Первый из них, написанный на турецком или арабском языке, подписывался войсковым атаманом, скреплялся печатью и отдавался «почетнейшему из черкесских старшин». Второй, на русском языке, передавался в войсковое правление.
Основным мерилом стоимости товаров была цена пуда соли, обходившегося войсковой администрации вместе с его доставкой на меновые дворы в 17 1/2 копейки серебром.
При продаже выменянных на соль товаров в пользу войсковых доходов устанавливалась 25%-ная надбавка.
Русский торговец сам уже в это время проявлял достаточную инициативу в деле развертывания торговли. На меновых дворах Кавказской линии и Черномории давно торговали купцы из Тулы, Тамбова, Орла, Ростова, Ставрополя и других городов России.
Их допуск к торговым операциям с адыгами диктовался, конечно, сугубо политическими соображениями.
Что же касается негильдейской городской мелкоты, также торговавшей на меновых дворах, то она освобождалась от гильдейского сбора, и по истечении трех лет эти так называемые «торгующие горожане» получали звание купцов третьей гильдии.
Привозимые на меновые дворы населением станиц и купцами товары, за исключением соли, также освобождались от всяких пошлин. Торговля солью по-прежнему должна была оставаться в руках войсковой администрации.
Одновременно с ростом торговли на меновых дворах увеличивалась черкесская торговля и на екатеринодарских ярмарках. До 1825 г. ярмарки проходили в самом городе, на площади у крепостных ворот, а затем по санитарным соображениям были вынесены за городскую черту, к роще Круглик, где был выстроен гостинный двор и 240 лавочных помещений, сдававшихся в аренду приезжим торговцам. Такие же лавки имелись в станицах Брюховецкой Березанской, Кушевской, Староминской, Каневской, Старощербиновской и Новомышастовской.
Сведения о ярмарочной торговле и об участии в ней адыгов сохранились с 1837 г. До этого времени имеются лишь отдельные отрывочные данные по этому вопросу
От 1837 г. до нас дошли довольно отчетливые и полные сведения о ярмарочных оборотах всех трех екатеринодарских ярмарок.
Согласно документам стоимость русских товаров, привезенных на екатеринодарские ярмарки в 1837 г., определялась в 752 812 рублей 50 копеек, кроме того «азиатских» товаров было привезено на 77 490 рублей.
Таким образом, общая стоимость русских и «азиатских» товаров выразилась в сумме 830 202 рубля 50 копеек.
Одновременно на ярмарки было доставлено: лошадей на 20 тысяч рублей, волов на 195 тысяч, быков на 200 тысяч, коров на 90 тысяч рублей,
Всего на 505 тысяч рублей.
Следовательно, общая стоимость всех привезенных на екатеринодарские ярмарки в 1837 г. товаров определялась в крупной сумме — 1 335 202 рубля 50 копеек.
Кроме Екатеринодара, ярмарки функционировали в целом ряде куренных селений (станиц) Черномории. Сохранившиеся сведения об этих ярмарках за тот же 1837 г. говорят, что они происходили в куренях: Новонижестеблиевском, Кущевском, Старощербиновском, Староминском, Каневском, Брюховецком и Березанском. Годовой оборот этих ярмарок выразился также в весьма солидной цифре — 6 073 055 рублей 71 копейка. Общая же сумма ярмарочных оборотов в Черномории за 1837 г. составила 7 680 175 рублей 46 копеек. Это достаточно убедительно говорит о том, какое значение приобрела торговля в жизни русского и адыгского населения среднего и нижнего Прикубанья. Поставляя рогатый скот, лошадей, продукты животноводства и охоты на внутренние рынки России, население Черномории, а также адыги покупали большое количество фабричных изделий. Хотя официально екатеринодарские городские и станичные ярмарки были открыты для адыгов лишь с 1845 г., в действительности же они активно посещали их уже в 30-х годах XIX в.
Князья и дворяне приезжали на ярмарки в сопровождении целого штата своих «служителей», закупали здесь огромное количество мануфактуры и других русских фабричных товаров. Эти товары они затем реализовали в горах. Многие из них пригоняли на ярмарки целые табуны лошадей и большое количество рогатого скота.
Еще более показательны факты появления в эти же годы на черноморских ярмарках зажиточных адыгейских тфокотлей, приезжавших со своими товарами. Для иллюстрации сказанного приведем один лишь факт, рисующий коммерческий облик этих торговцев.
В мае 1834 г. прибыли по течению реки Кубани на 19 каюках к Екатеринодарскому меновому двору «подвластные прапорщику Биберде Батуку простые черкесы 15 человек, а также и подвластные прапорщику Шеретлуку Гаджемуку 46 человек простые же черкесы с их товарами, а именно: кож бычьих и буйволовых 1208, заячьих 7385, овечьих и козьих 632, медвежьих 4, волчья 1, лисьих 201, кошечьих 135, куньих 50, меду 34 тулука весом 60 пудов 24 фунта, масла коровьего 20 тулуков весом 40 пудов 10 фунтов, сала бараньего и говяжьего 15 тулуков весом 30 пудов, воску 19 пудов 13 фунтов, меди-лому 18 фунтов, рогатым скотом 51 штукою и 7 лошадьми». Они просили «принять их с помянутыми товарами и животными в карантин и по надлежащем очищении пропустить в г. Екатеринодар на Троицкую ярмарку».
Характерным явлением, которое следует отметить по отношению к этой категории посетителей екатеринодарских ярмарок, было то, что они закупали относительно крупные партии мануфактуры для продажи своим соплеменникам. Прибыв на кордонную черту, они обычно, прежде чем ехать в глубь русской территории, предусмотрительно оговаривали себе беспрепятственный обратный пропуск за Кубань вместе с купленными здесь товарами.
Наблюдение над экономической жизнью прикубанских аулов в 30—40-х годах XIX в. позволяет говорить о выделении из числа зажиточной крестьянской верхушки мелких торговцев, которые стремились вести торговые операции самостоятельно и избавиться от тяжелой монополии, купцов, находившихся под покровительством адыгейской знати. Эта торговая прослойка тфокотлей к половине XIX в. начинает играть весьма заметную роль. Адыгейские князья цепко держались за право санкционировать провоз их «подвластными» товаров на русскую сторону Кубани. С этой целью они добивались у войскового начальства выдачи им особых печатей с обозначением своего имени русскими буквами. Оттиск такой печати на лоскутках бумаги должен был служить пропуском их тфокотлям при переходе с товарами через кордонную линию В виде особой привилегии русское командование давало известным ему адыгейским торговцам-тфокотлям и особые билеты.
Выдача таких билетов должна была предохранять адыгейских купцов «простого звания» от малоприятных и неожиданных сюрпризов.
Русское командование, следуя своей традиционной тактике, в неурожайные годы всячески стремилось ограничить вывоз хлеба за Кубань жителями мирных аулов, чтобы не допускать его перепродажи последними в руки «немирных абадзехов и убыхов». Однако достигнуть этого было не так-то легко. Казачье население кубанских станиц видело в продаже хлеба за Кубань весьма важную статью своего дохода и упорно игнорировало запретительные распоряжения начальства. Так, в мае 1840 г. закубанские черкесы, живущие близ станицы Старокорсунской, приезжали в нее ежедневно и покупали хлеб в муке и зерне «до немалого количества», за что платили очень высокую цену. Местные власти пытались запретить эту хлебную торговлю, но тщетно: казаки, как сообщалось в документе, «пользуясь ценною для них выгодою, стараются тайным образом продавать, и даже до такой степени черкесы произвели торговлю на хлеб, что жители решились запродать им и находящийся в стогах».
Дальнейшее развитие ярмарочной торговли в Черномо-рии отражено в годовых отчетах войсковых атаманов и рисуется в следующем виде: в 1842 г. стоимость товаров, привезенных на екатеринодарские и куренные ярмарки, определилась в сумме 887 113 рублей 62 копейки, а в 1849 г.— 1 355 937 рублей серебром.
Из этой последней суммы 680 763 рубля серебром при ходилось на долю трех годовых екатеринодарских ярма рок и 675 174 рубля на долю станичных.
Стоимость проданных товаров в цитируемых отчетах явно занижена в силу того, что сведения о них собирались путем устного опроса продавцов, а последние, как правило, всегда прибеднялись, жалуясь на плохие дела. Тем не менее даже эти заведомо приуменьшенные сведения весь ма показательны.
Эти цифры тем более показательны, что общая числен, ность русского населения Черномории в это время (1844 г.) согласно официальным статистическим данным составляла всего лишь 122 414 душ обоего пола.
Точных сведений о количестве адыгских товаров, привозившихся на русские ярмарки Черномории, не сохранилось. Однако общий ввоз их через кордонную линию непрерывно увеличивался.
В 1845 г. адыгам было официально разрешено свободное посещение ярмарок в Черномории. Большую роль в этом деле сыграл генерал Рашпиль, который, будучи убежденным сторонником присоединения Кавказа к России, считал, что достичь этой цели будет значительно легче при условии развития широких экономических связей между коренным и русским населением. Следуя взглядам Н. Н. Раевского, он в течение нескольких лет упорно добивался разрешения свободной торговли, видя в ней одно из главных средств «скорейшего прекращения войны и присоединения Кавказа к России». Он первый указал, что замкнуто-ограниченная торговля на меновых дворах оставляет в стороне абадзехов и значительную часть шапсугов, в силу того что так называемые «мирные черкесы», населяющие левобережную долину Кубани, в лице их социальной верхушки, всеми мерами стараются всячески затруднять их непосредственные отношения с русскими. Они, по мнению Рашпиля, сделали себя посредниками в деле продвижения русских товаров в горы и не хотят пропускать на русскую сторону высококачественный горный лес, которому сильно уступает лес, заготавливаемый бжедухами в Прикубанской низменности.
Такую же роль, по его словам, играли и армянские горские купцы, которые продавали «в виде чистой монополии» русские товары удаленным, от кордонной линии жителям и тем самым отстраняли их от непосредственного общения с русскими.
Подчеркивая, что постройкой укреплений Черноморской береговой линии и усилением русского крейсерства на Черном море почти совершенно закрыт доступ на Западный Кавказ турецким товарам, он указывал, что русский рынок должен явиться для адыгов источником «удовлетворения первых нужд существования». Отсюда и вытекало его предложение разрешить как «мирным», так и «немирным» горцам свободный провоз своих товаров на русские ярмарки в Екатеринодаре. Добившись в начале 1845 г. просимого разрешения, он разработал инструкцию о порядке торговли товарами на ярмарках.
Для общего наблюдения за ходом ярмарочной торговли и разбора жалоб назначался особый воинский начальник, ставка которого находилась в центре «стана» закубанских торговцев. В помощь ему выделялось пять адыгских старшин и один мулла.
С целью широкого оповещения и привлечения на первую, весеннюю екатеринодарскую (Благовещенскую) ярмарку 1845 г. за Кубанью были распространены воззвания, подписанные князем Воронцовым. Однако, как и предполагал Рашпиль, смысл этих воззваний был немедленно извращен мусульманским духовенством.
Неожиданно наступившее во второй половине марта резкое похолодание и распутица, сделавшая почти совершенно непроезжими дороги, сильно затруднили приезд торговцев в Екатеринодар.
Несравненно удачней прошла следующая, Троицкая ярмарка 1845 г. Согласно официальным сведениям на ней присутствовало 9800 адыгов, в числе которых было 7205 «мирных» и 2595 «немирных» горцев. Общая стоимость привезенных товаров определена в сумме 20 414 рублей, а куплено русских товаров на 22 524 рубля серебром.
Таким образом, общий оборот русско-адыгской торговли на Троицкой ярмарке 1845 г. выразился в круглой сумме 42 938 рублей серебром.
В 1847 г. ярмарочный оборот адыгской торговли (без учета ввоза товаров через меновые дворы и базары) выразился в сумме 22 664 рубля 50 копеек серебром. Продав на ярмарках товаров на 14 799 рублей, торговцы тут же купили на них русских товаров на 7865 рублей. Особенно много они приобретали молодняка крупного рогатого скота, что имело большое значение для улучшения породы горных стад.
Характерно, что значительная часть доставлявшихся в это время в Черноморию и Кавказскую область адыгских товаров перевозилась затем во внутренние губернии России. По далеко не полным сведениям, в 1844 г. «иногородние промышленники» вывезли из Екатеринодара в центральные города России 34 100 штук различных мехов на сумму 5 тысяч рублей серебром, а в 1848 г. только через одну Усть-Лабинскую карантинную заставу «во внутрь России» было пропущено адыгских товаров на 11 346 рублей 34 копейки серебром. Причем в их числе видное место занимали и готовые изделия: черкески, бурки, шапки, черкесское сукно, шаровары, башлыки и т. д.
Отмечая растущую роль денежного обращения в области русской торговли с адыгами, представители военной администрации указывали, что все эти вещи, материалы и продукты привозились хатукаевскими и абадзехскими народами, менялись на товар и разные вещи «русского произведения» и продавались ими за наличные деньги. На эти деньги покупался красный товар у русских промышленников.
В половине 50-х годов XIX в. на екатеринодарские ярмарки и базары начинают поступать товары даже из весьма удаленных пунктов адыгейской территории.
Приезжие русские купцы стали давать войсковой казне постоянный доход, выражавшийся в довольно солидных суммах, взимаемых с них за право торговли на войсковых ярмарках и базарах и за вывоз из пределов Черномории скота и товаров.
В именном списке «иногородним торговым лицам», постоянно торговавшим в Екатеринодаре и имевшим там лавки с красным товаром, записаны торгующими с конца 20-х — начала 30-х годов XIX в. тульский мещанин Антон Пономарев, коломенский мещанин Андрей Демидов, крепостной крестьянин села Испещина Московской губернии (принадлежавшего помещику Новикову) - Родион Рысаков, крепостной крестьянин помещицы Новосильцевой из деревни Пишкиной Серпуховского уезда Московской губернии Михайлов, государственный крестьянин Карп Капнин из слободы Райгородки Харьковской губернии, казенный крестьянин Павел Герасимов из деревни Италиной Владимирской губернии, мещанин Яков Кондратьев из Коломны, донской казак Иван Сербинов и многие другие выходцы из России, искавшие здесь выгодного применения своей торгово-предпринимательской инициативы.
К 1845 г. число «иногородних купцов», торгующих в войске Черноморском, достигло 208 с общим оборотом торговли в 570 тысяч рублей серебром.
Довольно активно втягивалась в торговые операции также часть богатого черноморского казачества. По положению 1842 г., в Черноморском войске было создано особое торговое общество с освобождением его членов от военной и гражданской службы. Большинство участников этой коммерческой корпорации занимались почти исключительно хлебной торговлей.
Екатеринодарский рынок, где встречались крепостной русский крестьянин, выступавший в роли продавца фабричных изделий, и «немирные» закубанские жители в качестве их покупателей, представлял собой своеобразное явление экономической и политической жизни России первой половины XIX в. Он наглядно показывал возможность мирного приобщения народностей Кавказа к экономической жизни страны.
Екатеринодар в 40-х годах XIX в. стал крупным торговым центром по вывозу скота, кож, воска.
Помимо ярмарок значительное количество мануфактуры и других фабричных товаров поступало к адыгам через так называемые сатовки, то есть постоянные базары, находившиеся близ русских укреплений кордонной линии.
Адыгейские князья обнаруживали большую заинтересованность в этих базарах. С наиболее влиятельными из князей, каким был живший близ Усть-Лабинской крепости Тетлустен Болатуков, русскому командованию приходилось даже согласовывать вопрос о выборе и назначении базарных дней.
Кроме екатеринодарских, о чем уже упоминалось выше, особенно большую популярность получили базары при Усть-Лабинской крепости. Базарный торг здесь проходил ежедневно, привлекая большое количество посетителей, приезжавших из-за Лабы и Кубани. Это обстоятельство скоро вызвало серьезное недовольство военного министра, который в июне 1832 г. приказал сократить число базарных дней в Усть-Лабе до трех в неделю
Книги Усть-Лабинской карантинной заставы, куда, заносились имена продавцов и покупателей товаров, позволяют составить довольно отчетливое представление об усть-лабинском базаре. На него приезжали на арбах зажиточные адыгейские тфокотли, привозившие с собой для продажи по нескольку десятков воловьих кож и овчин, а наряду с ними пешком приходила аульная беднота, неся в руках одну шапку или поношенную черкеску.
Под стенами крепости шел оживленный торг. В качестве покупателей здесь фигурировали казаки окрестных станиц, а также приезжие русские мещане из Рязанской, Тульской, Орловской губерний.
Своеобразной особенностью пограничной торговли было также немалое число покупателей из рядовых солдат расположенного в крепости Тенгинского пехотного полка. Отдельные из них с ведома своего непосредственного начальства вели даже довольно крупные торговые операции, скупая сотни воловьих кож, овчины, черкески, шаровары, шапки и т. д. Усилиями Рашпиля была разрешена «вольная мена» хлеба на изделия адыгов.
Меновые дворы, в прокрустово ложе которых правительство тщетно пыталось втиснуть растущие экономические связи русского населения и адыгов, тормозили частную торговую инициативу во имя сохранения войсковой монополии и явно теряли свое значение. Их закостенелые формы торговли не могли устоять перед напором продукции русских фабрик. Адыги же со своей стороны покупали товары на меновых дворах только в случае крайней необходимости.
В половине 50-х годов XIX в. войсковые меновые дворы стали давать совершенно ничтожные доходы.
По сути дела их торговая деятельность поддерживалась одной лишь меной соли. Однако и здесь были созданы такие условия, которые неизбежно заставляли горцев искать иных путей для ее приобретения: соль обменивалась только на дрова и отборный строевой лес, за мелкий же лес они получали там лишь дешевый лавочный товар.
В 1851 г. меновая торговля на Кавказе была прекращена и торговые отношения особым правительственным распоряжением объявлялись свободными, что сразу же благотворно сказалось на общем ходе торговли адыгов с русскими. Они снова начали открыто привозить товары на русские базары и покупать фабричные изделия, скот соль и т. д.
Итак, царское правительство рассматривало торговлю с горскими народами исключительно с позиций своей политики и стремилось подчинить ее строжайшей регламентации и контролю. Однако взаимная заинтересованность в товарном обмене между коренным и русским населением была настолько велика, что опрокидывала все полицейско-бюрократические преграды, а крепнущие торговые связи способствовали сближению адыгского и русского народов.
Очерк четвертый. Политика царизма по отношению к адыгской феодальной знати
Адыгское дворянство и царизм в конце XVIII в.
Стремясь прервать установившиеся мирные отношения и экономические связи между горскими народами и их русскими соседями, турецкие власти стали посылать в Прикубанье особых уполномоченных. Эти лица, называемые обычно в документах конца XVIII в. «турецкими чиновниками», напоминали адыгам о их подданстве турецкому султану и разжигали неприязнь к России. Кроме того, они должны были примирять враждующие народы, внушая им, что только Турция способна защищать всех повинующихся ей. Однако таких посланников адыги встречали весьма негостеприимно, и представители турецкой администрации при выполнении возложенной на них миссии часто оказывались в крайне затруднительном положении. Потерпев неудачу, они иногда вынуждены были искать спасения даже в русских пограничных укреплениях.
Вполне понятно, что при таком положении дел турецкому правительству приходилось решительно изменять и укреплять свои позиции. В связи с этим оно стремилось опереться на социальные верхи адыгов, и в первую очередь обеспечить себе симпатии дворянско-княжеской аристократии с ее военными дружинами. Но подобно тому как военная администрация царской России порой считалась с развертывавшимися социальными конфликтами внутри адыгейского общества, точно так же и Турция не могла их игнорировать и не учитывать все более поднимающееся значение верхушки тфокотлей. Отсюда необычайная сложность политических взаимоотношений турецкой администрации с отдельными адыгейскими народами, отсюда же и ряд демагогических шагов турецких властей по отношению даже к адыгейскому крепостному крестьянству. Царское правительство со своей стороны стремилось всячески парализовать деятельность турецкой администрации, направленную на вовлечение горских народов в борьбу против России.
Все это, вместе взятое, осложнялось еще и активным вмешательством европейской дипломатии, также стремившейся использовать адыгов в интересах борьбы с Россией на Ближнем Востоке.
Такова была та сложная обстановка, в которой социальные верхи адыгов должны были определять линию политического поведения.
Следуя своей традиционной политике искать опору у местной феодальной аристократии, царское правительство уже в конце XVIII в. старалось привлечь на свою сторону адыгейскую знать, на которую оно возлагало большие надежды в деле завоевания Кавказа. Хотя сословно-классовый облик адыгейской знати сильно отличался от облика русского дворянства и она не успела еще закрепить за собой исключительное право владения землей со всеми вытекавшими из него социально-экономическими и политическими последствиями, тем не менее царизм видел в ней, так сказать, родственное начало на кавказской окраине империи. Стремление адыгейских князей и дворян распространить крепостную зависимость на широкие слои свободного населения (тфокотлей), укрепить и расширить свои политические (владельческие) права в аулах и, наконец, сложившиеся уже понятия о сословной чести и благородном происхождении адыгейского дворянства делали возможным включение его в орбиту царской правительственной политики на Кавказе.
Со своей стороны адыгейские князья и дворяне очень быстро осознали то идеальное, с их точки зрения, положение дел, какое имело место в России в отношениях между массой крестьянства и привилегированным дворянским сословием. Для многих из них возникал большой соблазн принести присягу русскому правительству и при его поддержке закрепить в будущем владельческие права над тфокотлями.
Уже во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. правительство Екатерины II поставило целью привлечь на свою сторону наиболее влиятельных адыгейских князей, живших по левому берегу р Кубани Для этого им были даны привилегии, приносившие огромные материальные выгоды и оформлявшиеся соответствующими письменными документами. В 1791 г. князьям «женеевского племени» было выдано свидетельство, которое от имени русской императрицы разрешало безвозмездно и беспрепятственно брать соль из таманских соляных озер.
Между русской военной администрацией и закубанскими владельцами в силу местных экономических и политических условий должны были установиться постоянные отношения, которые касались бы вопросов, связанных с пользованием прикубанскими лесами и пастбищами, порядком переходов через р. Кубань, торговли, обмена и выкупа пленных и т. д. Кроме того, многие князья и дворяне рассчитывали получить поддержку России в борьбе против своих непокорных «подданных» и использовать ее военные силы в войнах против других, враждебных им племен.
В самом конце 1794 г. бжедухские султаны Аслан-Гирей и Девлет-Гирей подали войсковому судье А. Головатому письмо, в котором заявляли о своем желании вместе с дворянами принять русское подданство. Это намерение они мотивировали тем, что в прошлом они привыкли считать себя подданными крымских ханов, но теперь, поскольку Крым присоединен к России, они считают себя перешедшими в подданство русской государыни. Однако переход в русское подданство султаны пожелали сопроводить получением некоторых гарантированных привилегий. Обращаясь к А. Головатому, они писали: «Добрый наш сосед и истинный друг! Покорнейше просим Вас кому следует представить, чтобы позволено было купечествующим людям с нашей стороны переезжать в российские места для торгового промысла, а из россиян в наши места беспрепятственно, да и позволено бы нам было брать соль, и на что снабжены мы были от России письменными документами».
Вскоре к этим просителям присоединились и другие бжедухские владельцы.
Главную роль среди просителей играли князь Бат Гирей и вышеупомянутый султан Аслан-Гирей. Последний вместе со своими дворянами даже разработал подробные условия, которые должны были лечь в основу новых отношений с Россией адыгейских князей и дворян, принявших русское подданство. В условиях говорилось, что присягнувшие князья обязуются поддерживать мирные отношения в пограничной полосе и участвовать, если понадобится, в военных операциях русских войск против враждебных горцев за Кубанью, а в случае же возникновения новой войны России с Турцией вести совместные действия против турецких войск. Кроме того, в условиях заключалось требование не принимать переходящих из-за Кубани рабов и крепостных адыгейских владельцев.
Екатерина II сочла нужным вызвать в Петербург представителей от подавших просьбу адыгейских князей. Однако открытого согласия на принятие в русское подданство бжедухских князей и дворян она дать не решилась. Ее связывали условия мирного договора 1791 г. с Турцией: удовлетворение желания просителей «завело бы в неприятные объяснения и хлопоты с Портою Оттоманскою, подав ей причину укорять нас нарушением заключенного с нею трактата».
В результате было принято компромиссное решение. Как сообщалось в ордере графа Платона Зубова от 9 мая 1795 г. на имя войскового судьи Черноморского войска А. Головатого, присяга от бжедухских князей и дворян российскому правительству «принята быть не может», но «спокойное пребывание их в настоящих местах, сохранение на границе тишины и воздержание подвластных им народов от... беспорядков будет столько же благоугодною... государыне жертвой, как бы и принесение самой присяги, и что, оставаясь в таковом мирном соседстве, могут они твердо надеяться на высочайшее покровительство и вспоможение в их надобностях, как бы и самые ее величества подданные. В доказательство же сего... к ним благоволения по прошению князя Аслана и всех хатукайских мурз позволить конским табунам их ради избавления от похищений, чинимых часто абадзехами, ходить на пастве на землях войска Черноморского с платежом казакам».
В последний год своего царствования Екатерина II, не отменяя формально сделанного ею ранее распоряжения о непринятии в русское подданство выходящих из-за Кубани адыгов, сочла нужным, однако, дать особое предписание, фактически сводившее его на нет. Учитывая в дальнейшей политической перспективе неизбежность новых войн с Турцией, объектом которых должен был стать и Кавказ, она выдвинула план заселения Крыма закубанскими выходцами. Будучи поселены в Крыму и поставлены там в очень выгодные материальные условия, они являлись бы надежным оплотом царского правительства.
В беседах с перешедшими войсковому атаману надлежало объявлять, что при поселении в Крыму они получат землю, денежную помощь и в течение первых десяти лет будут избавлены от несения всяких государственных повинностей. Во избежание претензий со стороны турецких властей в Анапе атаман Черноморского войска должен был отправлять их «скромным образом в Симферополь».
Вступивший вскоре на русский престол Павел I вначале не счел возможным изменять официальную тактику Екатерины II по вопросу об отношениях с закубанскими князьями и дворянами, то есть на просьбы о принятии в русское подданство отвечать отказом.
Однако непрекращавшаяся вражда между отдельными адыгейскими племенами и борьба между владельцами некоторых аулов постоянно заставляла потерпевших поражение вместе с их семьями бежать на русскую сторону и, не считаясь с запрещением, переходить через Кубань. На предложения царской администрации уйти назад они обычно отвечали категорическим отказом, заявляя, что жилища их заняты врагами и что деваться им все равно некуда. Доставленные в канцелярию войскового атамана, они давали, как правило, один и тот же стереотипный ответ: «...ежели вскорости Россия нас на жительство к себе добровольно не примет, то мы будем через реку Кубань к вам переправляться и без позволения начальства, а вы с нами что хотите, то и делайте».
Войсковые власти, зная, какими серьезными последствиями для них грозило открытое неповиновение воле Павла I, довольно длительное время пытались твердо выполнять его распоряжение и отказывали в приеме переправлявшимся через Кубань. В делах, относящихся к 1797 и первой половине 1798 г., имеется большое количество описаний пограничных инцидентов, связанных с этим отказом. Задерживаемые на берегу умоляли спасти их от гибели, а семьи от рабства. Были случаи, когда люди в отчаянии бросались в воду. Создавалось крайне тяжелое положение, приводившее к ненужной напряженности пограничной обстановки. Оно не могло долго продолжаться и со второй половины 1798 г. начало нарушаться. Если можно было избежать огласки, то войсковая администрация, не давая знать в Петербург, разрешала вышедшим селиться в ближайших прикубанских аулах, удаленных от места их прежнего жительства.
В качестве примера можно привести случай с дворянином Шостен-Али. В апреле 1798 г. он с семейством, родственниками и крепостными крестьянами переправился через Кубань у Екатеринодара. Все усилия заставить его вернуться остались безуспешными. Когда прибывший на место происшествия войсковой атаман Т. Котляревский приказал силой отправить людей обратно на левый берег Кубани, то Шостен-Али заявил ему: «Не пойду, а ежели хочешь, топи меня, все семейство и подданных», объясняя при этом, что его родина занята уже неприятелями, жаждущими его гибели. Шостен просил принять его в русское подданство или разрешить ему под защитой русских кордонов на лодках доплыть до Усть-Лабы, поблизости от которой у него имелись приятели. Т. Котляревский при всей осторожности вынужден был удовлетворить эту просьбу.
Вслед за Шостен-Али в результате новой вспышки межплеменной вражды за Кубанью на русскую сторону устремились целые сотни беглецов, и войсковому начальству снова пришлось обратиться с запросом в высшие инстанции. Павел I, отступив от сделанных им предписаний, лично разрешил султану Али-Шеретлуку поселиться на русской территории. Вслед за этим довольно легко давались разрешения на переход и другим закубанским владельцам.
Переход некоторых адыгейских князей и дворян на русскую сторону и стремление принять русское подданство, однако, не всегда означали твердое намерение не возвращаться обратно. Их очень мало устраивал полный отрыв от привычных условий жизни и отношений, оставленных за Кубанью, и естественно, что как только изменялась политическая обстановка, заставившая их перейти на русскую сторону, так сейчас же просившие убежища князья и дворяне готовы были вернуться и даже бежать. Так, например, в 1799 г. бежал за Кубань шапсугский дворянин Явбук-бей, поселенный вместе с султаном Али-Шеретлуком на Ангелинском ерике, Подобные случаи часто имели место. Главная причина заключалась в том, что на переход через Кубань многие дворяне смотрели как на временное состояние, видя в пребывании на русской территории лишь средство выждать для себя изменение обстановки за Кубанью к лучшему. Это обстоятельство было скоро понято местными русскими властями и доведено до сведения Павла I, который повелевал отказывать им.
Однако никакие запрещения по-прежнему не могли пресечь переходов, и местное военное начальство, не будучи в состоянии после такого распоряжения открыто принимать искавших убежища, старалось устраивать их на жительство в прибрежных закубанских аулах. Владельцы этих аулов поддерживали с войсковым начальством постоянные добрососедские отношения, что объяснялось их заинтересованностью в торговых отношениях на линии кубанской границы, в которых они играли роль посредников.
Любопытна сохранившаяся переписка между атаманом Ф. Я. Бурсаком и некоторыми закубанскими князьями. Большая часть писем, отправленных ими, писалась мусульманским духовенством или же их женами и дочерьми на арабском языке, а сам отправитель прикладывал лишь свою печать в удостоверение подлинности текста. Однако довольно часто закубанские князья и дворяне обзаводились собственными секретарями из числа пленных или беглых русских солдат, которые и вели всю их переписку и бухгалтерию по торговым операциям и сборам. В начале же XIX в. многие князья и дворяне Уже сами умели читать и писать по-русски и собственноручно писали письма войсковой администрации.
Твердо держась тактики устанавливать добрососедские отношения с закубанскими владельцами, атаман Бурсак обнаруживал большую выдержку. Даже в случае явных улик, изобличавших отдельных из них в весьма малоблаговидных поступках (именовавшихся на канцелярском языке того времени «шалостями»), он оставался верен своей тактике и, прежде чем применить силу, пытался уговаривать.
Подобные факты отнюдь, конечно, не означали, что атаман Бурсак был сторонником исключительно мирного образа действий по отношению к закубанским горцам. Они говорят лишь о том, что он, учитывая значение представителей дворянско-княжеской знати, стремился завоевать их расположение и использовать его для мирных отношений. Находя довольно легко общий язык c закубанскими князьями и дворянами, он, однако, как и большинство других администраторов, не мог подняться до осознания политических последствий русского вмешательства на стороне адыгейской военно-феодальной аристократии. Он не мог, в частности, предвидеть того, что участие русских войск в Бзиюкской битве на стороне дворянского ополчения против ополчения шапсугских и абадзехских тфокотлей впоследствии вызовет ряд нападений на укрепления и казачьи селения. Ответом на эти нападения явились походы Бурсака в 1800, 1802, 1807, 1809, 1810 и 1811 гг. в земли шапсугов, натухайцев и абад-зехов. Однако они не только не достигли поставленной задачи «умиротворения», а наоборот, поднимали горцев на новые ответные нападения и усиливали политические позиции Турции. Данное обстоятельство особенно сильно сказалось во время русско-турецкой войны 1806— 1812 гг.
Военная поддержка адыгских дворян и князей русским правительством
Одним из главных видов поддержки, оказываемой русским правительством адыгским князьям и дворянам была вооруженная помощь в деле защиты их владельческих прав и привилегий по отношению к крестьянству
При такой поддержке князья и дворяне рассчитывали не только сохранить в силе все повинности тфокотлей, но и значительно расширить их зависимость, превратив постепенно массу свободного адыгейского населения в своих крепостных. Наиболее отчетливо это было выражено в 1846 г. шапсугскими и натухайскими дворянами в прошении, поданном на имя наместника Кавказа князя М. С. Воронцова. Они писали: «Всему кавказскому народу известно, что мы были первостепенные дворяне. Мы почли за особенное счастье покориться великому русскому государю, в той надежде, чтоб по величию души и милосердию сего государя права наши были сохранены во всей силе, как нам, так и потомству нашему, и почитали бы нас верховными дворянами, так как и в России нам известно, что дворяне имеют крестьян и пользуются своими дворянскими правами».
Устремления дворян были вполне понятны правительству крепостной России и находили у него благожелательный отклик. Этим же объясняется, в частности, тот факт, что уже правительство Екатерины II сочло нужным вмешаться в борьбу адыгейских тфокотлей с их князьями и дворянами, пустив в ход силу оружия.
Бзиюкская битва явилась крупным вооруженным столкновением между адыгейской военно-феодальной аристократией, наступавшей на свободное население сельских общин с целью его закрепощения, и тфокотлями, отстаивавшими свою независимость.
Последним толчком, который непосредственно предшествовал событию, стало разграбление шапсугскими дворянами Шеретлуками торгового купеческого каравана, находившегося под покровительством одной из шапсугских общин. Во время нападения были убиты сопровождавшие караван шапсугские воины, выделенные покровителями для его охраны. Этот случай не представлял сам по себе из ряда вон выходящего явления в действительности конца XVIII в., но на фоне резкого обострения отношений между дворянством и тфокотлями он привел к взрыву и послужил началом крупных событий. Возмущенная толпа вооруженных шапсугских тфокотлей напала на двор одного из Шеретлуков и разгромила его. Во время этого разгрома была оскорблена ругательствами и побоями мать Шеретлука и уведена в плен принадлежавшая ему крепостная девушка.
Такой неслыханный факт оскорбления дворянской чести не мог быть оставлен без отмщения, и вся многочисленная фамилия Шеретлука поклялась достойным образом отомстить забывшимся тфокотлям. Однако, прекрасно понимая, что для серьезной борьбы со всей массой шапсугского крестьянства одних их сил недостаточно, они бежали со своей вооруженной дворней в землю бжедухов и обратились с просьбой о помощи к бжедухским князьям. Главным и наиболее влиятельным князем у бжедухов в это время был Бат-Гирей. Он принял горячее участие в судьбе пострадавших дворян, не без основания полагая, что быстрое и суровое пресечение движения тфокотлей послужит наглядным уроком и для бжедухского крестьянства. Тем более что к настоящему времени движение, направленное против повинностей в пользу князей и дворян, стало обнаруживаться и у бжедухов. На съезде бжедухских князей и дворян торжественно было принято решение о покровительстве Шеретлукам. Объективно это означало перерастание через грани былого племенного деления адыгов сословно-феодальной солидарности их общественных верхов и создание единого фронта адыгского дворянства во имя сохранения и дальнейшего развития зависимости крестьянства.
Движение тфокотлей против произвола, насилий и закрепостительных стремлений дворянства, начавшись с описанного эпизода у шапсугов, вызывало все более и более грозный отклик и у других горских народов. Это заставило вождей дворянско-княжеской коалиции Бат-Гирея и Али-Шеретлука решиться искать поддержку у русского правительства. Воспользовавшись приглашением Екатерины II приехать в столицу в связи с выраженным бжедухскими князьями и дворянами желанием принять русское подданство, в 1795 г. князь Бат-Гирей вместе с двумя делегатами от шапсугских дворян отправился в Петербург. Здесь они встретили самый радушный прием и полное сочувствие к их намерению оружием остановить дальнейшее развитие движения тфокотлей. Екатерина II удостоила личного приема прибывшую делегацию, милостиво беседовала с Бат-Гиреем и Али-Шеретлуком и отдала распоряжение, чтобы атаман Черноморского войска Чепега оказал им вооруженную помощь.
Характерно, что в данном случае правительство Екатерины II сочло возможным открыто действовать оружием на закубанской территории, формально принадлежавшей Турции.
В то время как князь Бат-Гирей с депутатами находился в Петербурге, шапсугские дворяне, укрывшиеся на бжедухской территории, стали совершать отсюда непрерывные вооруженные набеги на шапсугские аулы. Этими нападениями они довели ожесточение шапсугских тфокотлей до предела, и последние стали готовиться к решительной вооруженной борьбе со своими дворянами. Они заключили военный союз с абадзехами и частью натухайцев. Таким образом, блоку шапсугских и бжедухских дворян и князей, объединившихся под эгидой русского самодержавия, противостал единый фронт тфокотлей двух крупных адыгейских племен.
Соединенное народное ополчение двинулось к берегам небольшой речки Бзиюко, находившейся в 18 км к юго-западу от современного Краснодара. Туда же направились и войска их противников. Ополчение бжедухских и шапсугских дворян шло к месту сражения в сопровождении русского отряда численностью в триста человек с артиллерией. В этом месте 10 июня 1796 г. и произошла знаменитая Бзиюкская битва, в которой приняло участие свыше 50 тысяч человек с обеих сторон.
Первый натиск крестьянской шапсугской и абадзехской пехоты на дворянскую конницу, не успевшую перейти в атаку, был настолько силен, что она не выдержала его и покатилась в сторону русского отряда, стоявшего в стороне в резерве. Увлеченные преследованием, во главе со знаменосцами, несколько тысяч тфокотлей вплотную подбежали к каре русских войск, под прикрытием которого сосредоточивалось опрокинутое дворянское ополчение, и здесь были встречены картечью и ружейными залпам. Это решило исход боя. Расстроенные ряды крестьянской пехоты дрогнули и начали отступать к лесной опушке. Общие потери соединенного ополчения тфокотлей превышали 4 тысячи человек. Кроме того, свыше 2 тысяч человек взято в плен. Потери дворянско-княжеского ополчения были значительно меньше, но в конце сражения был убит главный руководитель его князь Бат-Гирей. Смерть Бат-Гирея произвела необычайно сильное впечатление на адыгскую знать, и в песне, сложенной ее певцами, говорилось: «Заплакали бжедухи, потеряв в бою любимого вождя Бат-Гирея; оплакала его и великая царица!»
Не приходится удивляться, что открытая поддержка русским правительством интересов адыгской знати сильно вооружила народные массы адыгов против России и создала благоприятную обстановку для деятельности среди них турецких правительственных агентов.
Потерпев поражение в долине Бзиюко, шапсугские тфокотли, однако, не сложили оружия и, используя благоприятные условия горно-лесистой территории, продолжали вести упорную борьбу с дворянством, нашедшую отражение в целом ряде народных преданий, сохранившихся до нашего времени. Она продолжалась длительное время и истощала обе враждующие стороны, сопровождаясь разорением бжедухских аулов, где укрывались шапсугские дворяне и на которые нападали выходившие из лесов шапсугские тфокотли. Это обстоятельство заставило наконец бжедухских князей, терпевших серьезный материальный ущерб, выступить в роли посредников между шапсугскими дворянами и тфокотлями. В результате между враждующими сторонами было заключено соглашение, очень сильно урезавшее права шапсугских дворян, но сохранившее все же за ними часть их прежних привилегий. Соглашение было оформлено на особом собрании, так называемом печетнико-зефес, после того, как дворянам разрешено было вернуться на родину.
В высшей степени характерно, что тфокотли, оговаривая условия возвращения дворян на родину, не потребовали от них отказа от права владения рабами и крепостными. Автор статьи «Бесльний Абат» Хан-Гирей, несколько нечетко называя последних «оброчными», указывает, что они, увлеченные примером тфокотлей, также отказались от повиновения своим владельцам-дворянам и что это по сути дела составило главную потерю дворянства. Однако «народ (т. е. тфокотли.— М. П.) прямо не вступался за этих людей; по крайней мере, он не требовал от дворянства решительного отказа от своих прав над ними; но между тем и не выдавал их владельцам, которые, будучи сами не в состоянии без помощи народа снова покорить их своей власти, потеряли их на самом деле, хотя и до сих пор не отказываются от прав над ними».
Такая ограниченность народного движения «демократических племен» объяснялась огромной заинтересованностью зажиточной части тфокотлей в зависимом труде и боязнью распространения опасного вольнодумства дворянских крепостных на ее собственных унаутов и пшитлей. Имел место в высшей степени своеобразный процесс втягивания части бывших дворянских крепостных в орбиту зависимости от верхушки тфокотлей, который отчетливо наблюдался у шапсугов в последующий период времени.
В результате было достигнуто соглашение на основе серьезного ущемления сословно-владельческих прав и притязаний шапсугского дворянства, но не лишившего, однако, последнего права владения крепостными и рабами. Ограниченность «шапсугской революции», закончившейся политическим компромиссом между верхушкой тфокотлей и дворянством, объяснялась рядом причин. Важнейшей из них было то, что богатые тфокотли не меньше, чем дворяне, были заинтересованы в эксплуатации зависимого труда, а также в торговле, рабами с Турцией. В лице же своих старшин они выделяли новую феодальную прослойку, которая в ходе развивавшихся событий могла пойти на частичную конфискацию дворянских рабов и крепостных, но вовсе не думала покушаться на само существование крепостничества и рабства у адыгов. Вынужденная маскировать эксплуататорские тенденции по отношению к свободному населению общин, она медленно, но устремленно тянулась к власти, проявляя при этом достаточный политический такт по отношению к вчерашним противникам.
Кроме того, социальная солидарность тфокотлей, временно объединившихся для борьбы против военно-феодальной аристократии, не могла преодолеть межплеменной обособленности и вражды, характерных для догосударственного периода в истории народов. Это же помогало старой адыгской военно-феодальной знати сохранять свое значение в качестве вооруженной силы. В результате шапсугские тфокотли, ограничив сословные привилегии дворянства, склонны были, однако, под давлением старшин согласиться на его возвращение с сохранением за ним военных функций. Таким образом, экономические и политические факторы жизни адыгов еще не создали достаточных предпосылок для социального изъятия дворянства из общей структуры адыгейского общества.
Небольшая часть шапсугских дворян во главе с султаном Али-Шеретлуком не примирилась с таким положением и предпочла перейти к русским. Переход был разрешен в 1799 г. личным распоряжением Павла I. Выходцы были поселены в специально основанной для них черкесской станице.
Аналогичное ограничение прав дворянства произошло у натухайцев и абадзехов, только в несколько менее резких формах. Остальные адыгейские народы к началу XIX в. продолжали сохранять привилегии военной аристократии, хотя у них тоже чувствовался назревавший социальный конфликт. Стремясь сохранить сословные права по отношению к тфокотлям при помощи русской администрации, отдельные представители знати в переговорах по этому вопросу с русским командованием не раз демагогически заявляли, что их подданные «хотят установить республику».
Бзиюкская битва, так ярко показавшая политическую солидарность правительства крепостной России и адыгской военно-феодальной знати, была далеко не единственным примером поддержки со стороны русских властей владельческих интересов адыгского дворянства. В 1830 г., когда у князя Алкаса произошло столкновение с абадзехами, которые на основании соглашения с бжедухскими тфокотлями начали запахивать пустующую землю в его владениях, русским командованием ему была оказана вооруженная помощь, и абадзехи были прогнаны.
Вслед за этим такая же вооруженная помощь была оказана Магом-Гирею и другим закубанским князьям. Русские войска, переправляясь с артиллерией на левый берег Кубани, помогали владельцам аулов отбрасывать противников и тем самым наглядно демонстрировали поддержку царским правительством преданных ему адыгейских князей и дворян.
Шапсугское дворянство, вынужденное принять выдвинутые тфокотлями после Бзиюкской битвы условия, в последующий период времени не могло все же с ними окончательно примириться. В течение первых трех десятилетий XIX в. оно пыталось, правда, приспособиться к совместному существованию с поднявшим голову «средним сословием» в новой политической обстановке, но это становилось все более трудным.
Не приходится удивляться, что в сознании русской военной администрации на Кавказе, а также во мнении правительственных сфер царской России все происходившее у адыгов воспринималось как опасное потрясение основ крепостных отношений. Не разбираясь в особенностях социального устройства адыгов, российское правительство подходило к обиженному тфокотлями представителю военной знати с привычной меркой крепостных отношений и рассматривало его как владельца, ведущего борьбу с восставшим крестьянством. Царизм склонен был даже видеть в происходивших событиях проявление ненавистного революционного духа времени, неведомыми путями проникшего в предгорья Кавказа.
В 30-х годах XIX в., сам того не подозревая, на фоне незадолго перед этим подавленного движения декабристов шапсугский «якобинец» доставлял немало забот и беспокойства русскому самодержавию, хотя, как мы видели выше, он совершенно не собирался посягать на существование крепостничества у адыгов. Решительно ограничив дворянские привилегии, он в последующий период лишь в виде наказания дворян за их неблаговидные поступки время от времени стал применять по отношению к ним конфискацию пшитлей и унаутов. С таким положением трудно было смириться, и 30-е годы XIX в. отмечены рядом новых переходов шапсугских дворян в Россию.
В 1832 г. в целях быстрого оказания в случае надобности вооруженной помощи закубанским князьям, жившим близ Екатеринодара, был устроен паром для переброски русских войск через Кубань, и в том же году была оказана очень серьезная военная помощь одному из них — князю Магмету.
1846 г. ознаменовался в жизни шапсугского, а также натухайского дворянства чуть ли не поголовным стремлением уйти в Россию. Напомним, что незадолго до этого натухайские тфокотли, следуя примеру шапсугов, тоже почти совершенно лишили свою военно-феодальную аристократию ее старинных прав, что как нельзя более способствовало объединенным действиям дворянства двух народов.. Большая часть дворян решительно была намерена переселиться поближе к русским укреплениям. Натухайские дворяне наметили местом нового поселения территорию между Гостагаевским укреплением и Анапой, а шапсугские выразили желание поселиться на пространстве от впадения в Кубань Афипса до отделения от Кубани ее рукава — Каракубани. Натухайское дворянство, следуя примеру шапсугского, также выделило собственный политический актив в лице дворян Керзеча Тугуза и Магомета Кайцука, которые, прибыв в Екатеринодар, заверили генерала Рашпиля в единодушном намерении всего дворянства покинуть неблагодарную родину и перейти под покровительство русских властей.
Что же касается настроений широких народных масс шапсугских и натухайских тфокотлей, то последние не сразу поняли коварную цель дворянства, заключавшуюся в том, чтобы, приняв русское подданство, обрушить в будущем на их головы крепостную зависимость. Наоборот, они склонны были видеть во всем происходившем лишь доказательство торжества подымающихся сил своего «сословия».
Однако уже к концу февраля 1847 г. верхушка натухайских тфокотлей осознала гибельные последствия, какие могла иметь для нее отдельная присяга дворян русскому правительству. Она поняла, что дворяне в действительности, переселившись под защиту русских укреплений, постоянно будут возбуждать против тфокотлей русское командование и изображать последних как непримиримых врагов России. Необходимо было срочно парировать намерения дворян, и первым следствием этого было то, что натухайские старшины мудро заставили мусульманское духовенство занять совершенно необычную позицию. На общем собрании шапсугов и натухайцев, обсуждавшем дальнейшие политические перспективы и вопрос об отношении к русским, под их давлением натухайские муллы и кадии вынуждены были заявить, что «...не только с правоверным, преданным неверным, но и с самими неверными поступать неприязненно не следует, исключая военного времени, когда законными государями объявляется война» . Этим, так сказать, подчеркивалась политическая лояльность тфокотлей по отношению к русским и разоблачалась злобная клевета дворян.
Тфокотли постарались пресечь дальнейшие сношения своих дворян с русским командованием. 7 марта в Варениковское укрепление, где находился прибывший туда по приглашению натухайских дворян для переговоров генерал Рашпиль, прискакали взволнованные Тугуз и Карабатыр Керзечи. Они объявили, «что простой натухайский народ, осведомясь об общем дворян намерении, пришел в волнение. Быстро составив собрание до 800 человек и преградив дворянам путь личного сношения с русскими властями, положил не допустить никого из них к исполнению покорного намерения...».
Убедившись в серьезности планов русского правительства и его военной администрации на Кавказе защитить их от посягательств «зазнавшейся черни», шапсугские и натухайские дворяне решили обставить свой переход в русское подданство возможно более выгодно. Они потребовали, чтобы все, кто переселится на новые места, были бы немедленно вознаграждены за убытки, которые они понесут при переселении. Тем же, кто не успеет незаметно покинуть аулы и будет задержан тфокотлямй, должна быть оказана русская вооруженная помощь, под прикрытием которой они могли бы вывезти имущество и крепостных.
Высказав эти пожелания, они затем оформили их в особой декларации, поданной на имя князя Воронцова, в которой указывали: «...в притеснениях своих простой народ натухайский и шапсугский отнял от нас, дворян, подвластных нам 8466 дворов, которых обязал присягою присоединиться к своему обществу, лишив таким образом нас возможности ими пользоваться. По оставшимся от предков наших черкесским обычаям мы имели совершенное право на владение крестьянами, но народ для своей пользы выдумал другой какой-то шариат, на основании коего и отнял подвластных нам людей (подчеркнуто мною.— М.П.). Они забываются перед нами и не придерживаются оставшихся обычаев предков наших и настоящего шариата. За таковые обиды наши и ущербы дозволено бы было нам отмстить им оружием самим собою и с помощью русских войск в разное время. При этом просим, чтобы и бежавшие от нас крестьяне в разное время в Россию были возвращены и отданы своим владельцам».
Князь М. С. Воронцов 1 мая 1847 г. прислал ответ, в котором обещал, что после принятия просителями русского подданства их дворянские права будут полностью сохранены, разрешал им переселиться на избранные им места и свободно выходить к русским укреплениям, расположенным на Черноморском побережье. Кроме того, он обещал им военную помощь при переселении и разрешал мстить врагам, не находящимся «в русском подданстве». Что же касается вознаграждения за понесенные убытки, то Воронцов довольно дипломатично указывал, что «всякий, кто оставляет старое место жительства и переселяется на новое, должен иметь убыток в имуществе, но зато если новое место лучше старого, то убытки сами собою скоро вознаграждаются», и что если к тому же новые подданные русского императора обнаружат должное рвение и усердие на службе ему, то «щедроты его вознаградят за неудобства, связанные с переселениями».
Точно так же не получил желаемого адыгейскими дворянами решения вопрос о их крепостных и рабах, бежавших в Россию в предшествовавший период времени.
Отказ удовлетворить это основное требование дворян сразу же поколебал решение многих из них принять русское подданство, и они снова стали искать примирения со старшинами тфокотлей в надежде сохранить остававшихся у них пшитлей и унаутов, поскольку расчеты на пополнение их числа при переходе в Россию оказались несостоятельны. Стремясь завоевать довольно сомнительную преданность адыгейских князей и дворян, постоянно колебавшихся в своих политических симпатиях между Турцией и Россией, русские власти в то же самое время отталкивали от себя широкие народные массы адыгов и способствовали деятельности на Кавказе иностранных агентов и проповедников мюридизма.
Не приходится в связи с этим удивляться тому, что произошло уже в следующем, 1848 г. Откровенная поддержка русскими властями адыгских дворян в их социальном конфликте с тфокотлями не могла не вызвать резко отрицательную реакцию со стороны последних. Шапсугские и натухайские тфокотли прекрасно понимали, что союз их дворян с русским правительством грозит им не только реставрацией, но и значительным расширением утерянных дво-. рянских прав и преимуществ. Именно поэтому весной 1848 г. развернулось активное движение, вылившееся в настоящий погром шапсугских и натухайских дворян. Ход событий заставил крепко призадуматься русскую военнуюадминистрацию на Кавказе. Можно сказать, что она не предвидела всей серьезности тех последствий, которые произошли в результате занятой ею позиции в борьбе между адыгейским дворянством и тфокотлями. Начинать крупные военные действия в защиту шапсугско-натухайского дворянства на всем пространстве от Анапы до Екатеринодара значило бы разжечь большую войну и вызвать общее вооруженное выступление горцев. Понимая это, местные начальники, лучше ориентировавшиеся в сложившейся обстановке, чем высшее командование, по собственной инициативе повели переговоры со старшинами шапсугских и натухайских тфокотлей, убеждая их прекратить преследование дворян. Одновременно они убеждали самих дворян, остававшихся за Кубанью, селиться между фортом Раевского и Анапой. Однако значительная часть дворян, не успевшая своевременно выйти вместе со своими семьями, скотом и крепостными, испуганная конфискацией имущества дворян, ушедших в Россию, не решалась на это.
Тем временем князь Воронцов счел за благо, не начиная военных действий в защиту дворян, обратиться к старшинской верхушке тфокотлей с воззванием, в котором пытался затушевать истинные причины, толкнувшие шапсугско-натухайских дворян на сделанный ими шаг. Он изображал их действия как следствие простого доброго отношения дворян к русскому правительству и призывал тфокотлей последовать их примеру, принеся верноподданническую присягу императору. Объективно это значило, что в результате происшедших событий шапсугское и натухайское дворянство, вместе взятые, перестали быть той общественной силой, из-за которой стоило бы начинать крупные военные операции.
Кроме того, становился все более и более ясен возросший удельный вес старшинской верхушки адыгейских тфокотлей, поднявшейся на волне антидворянского движения, и ее роль в жизни адыгейского общества. Проводя по обязанности и традиции покровительственную политику по отношению к военно-феодальной знати, они не могли в то же время не считаться с увеличивающимся значением «старшин простого народа». Хотя в действиях народной массы адыгов и было много таких моментов, которые вызывали крайне неприятные исторические ассоциации и аналогии в сознании представителей крепостнического режима царской России, тем не менее без относительно лояльных отношений с простым народом нельзя было рассчитывать на дальнейший успешный ход освоения Кавказа.
Желая поскорее выбраться из этой затянувшейся и крайне неприятной «шапсугско-натухайской истории», в которую вовлек русского главнокомандующего его политический флирт с адыгейским дворянством, князь М. С. Воронцов 10 июля 1848 г. подписал специальное воззвание к «старшинам натухайского и шапсугского народов», в котором предупреждал их: «Когда среди ваших обществ предпринимается учреждение для угнетения ваших братии, единственно за доброе их к нам расположение, мы не можем допустить вас к таким действиям, мы не должны оставить без защиты людей, которые находят пользу свою в сношениях с нами. Предваряю вас об этом, старшины народа, дабы вы не вводили у себя таких вредных для общего спокойствия учреждений. Если вы будете продолжать действовать, как начали, противу людей, в дружбе с нами живущих, то мы вынуждены будем прибегнуть к оружию и истреблять ваши аулы, хлеба, а может быть, построить среди вашей земли крепости, сделать русские поселения и таким образом лишить вас богатых и лучших мест, на коих жили ваши предки».
Как и следовало ожидать, эта декларация князя Воронцова ничего, кроме отрицательных последствий, не имела. Она вызвала враждебное недоверие горцев к русскому командованию, так бесцеремонно вмешавшемуся в их борьбу с дворянством, и оттолкнула в то же время от него и старшин.
Отказавшись от плана освободительного похода за Кубань во имя спасения «угнетенного чернью» дворянства, русские власти продолжали радушно принимать дворян-перебежчиков. Их поселяли в прикубанских аулах, находившихся поблизости от пограничных укреплений, и давали пособия. Большая группа натухайских дворян была поселена в окрестностях Новороссийска.
К этому времени неопределенность поведения адыгейских дворян вместе с их настойчивыми требованиями вернуть беглых крепостных, часть которых была уже зачислена в Черноморское казачье войско, изрядно надоела, и местные власти довольно откровенно заявляли:
«Легче иметь дело с десятком тоховов, нежели с одним узденем». В силу того что русское командование дальше общих деклараций и радушного приема добровольно выходивших на русскую территорию не пошло, а оставшиеся на родине дворяне принесли повинную старшинам, острота дворянского вопроса у шапсугов и натухайцев постепенно сгладилась.
Борьба между дворянами и тфокотлями в XIX в. происходила и у других адыгских народов, принимая различные по остроте формы.
Определяющими моментами покровительственных Отношений со стороны русской администрации к адыгейской дворянско-княжеской знати становились ее открытый переход на русскую службу и участие в военных операциях на стороне русских войск.
У бжедухов, как отмечалось выше, позиции военно-феодальной аристократии были гораздо более прочны. Этим объясняется, что бжедухские князья и дворяне не только удерживали власть, но и оказывали поддержку другим дворянам в их напряженной борьбе с тфокотлями. Однако постепенно и у них все более начало сказываться растущее движение тфокотлей. Вскоре после Бзиюкской битвы, в которой бжедухская знать выступила в качестве силы, возглавившей адыгейскую феодальную реакцию, бжедухские тфокотли перешли в наступление на своих князей, тляко-тляжей и уорков. Борьба эта началась с отказа тфокотлей от выполнения лежавших на них повинностей и вооруженного отпора отдельным владельцам. Постепенно нарастая, она привела к тому, что к половине XIX в. созрели предпосылки для общего широкого восстания.
Чувствуя неизбежность приближающихся событий, бжедухская аристократия попыталась закрепить при помощи русских властей свои социальные позиции, создав особый феодально-аристократический орган управления общеплеменного значения.
В декабре 1853 г. князья и дворяне подали докладную записку, в которой просили о создании у бжедухов особого дворянско-княжеского суда.
Проект этот, составленный при непосредственном участии бжедухской феодальной знати, по существу передавал все функции административного управления и суда в руки дворянско-княжеской верхушки. Общее же наблюдение и контроль за деятельностью суда оставались в руках русской администрации. В декларативной части проекта говорилось, что с целью «обеспечения общественного порядка и правосудия в населяющих левую сторону Кубани племенах: хамышеевском, черченеевском и хатукаевском — учреждается, в каждом из них, суд присяжных — тгарко-ххас». У хамышеевцев суд присяжных должен был состоять из двух князей (один из них из фамилии Гаджимока, другой из фамилии Крымчериоко), одного султана, восьми дворян (четверо из которых должны были быть представителями от княжеских аулов «пшечеу» и четверо от дворянских «воркокадж») и одного эфенди. У черченеевцев суд состоял также из двух князей (один из фамилии Мишеоста, а другой из фамилии Пшенукино), восьми дворян и одного эфенди. Единственным отличием от хамышеевского суда здесь было то, что в составе его не представлялся султан. Что касается хатукаевцев, то в силу их малочисленности суд у них предполагалось составить из одного князя, двух или трех дворян и одного эфенди.
Функции этого суда сообщали ему характер административно-полицейского органа. На него возлагались «неусыпное наблюдение за внутренним спокойствием и благочинием, объявление и приведение в действие всех распоряжений русского начальства, представление русскому начальству о народных нуждах и потребностях и посредничество между русским начальством и своими обществами». Члены суда были облечены большими полномочиями: достаточно указать, что всякого бжедуха, обратившегося с жалобой непосредственно к русским властям, последние должны были предварительно отослать к членам суда для разбора его дела. Только в случае повторной жалобы на неправильное решение суда русская администрация могла потребовать от членов его соответствующих объяснений, и, если выяснялось, что дело жалобщика было действительно разобрано пристрастно и несправедливо, местным начальникам предоставлялось право «дать ему законное направление». В противном же случае они обязаны были принудить «жалобщика к беспрекословному выполнению решения суда».
Кроме того, члены суда должны были выявлять тех, кто вступал в сношения с враждебными русскому правительству лицами, и немедленно передавать их в руки властей. Проект возлагал на членов суда также ответственность за недопущение тайного провоза с русской стороны Кубани запрещенных товаров (оружие, порох, железо и соль). Они же должны были не допускать занятий земледелием «непокорных горцев» на своей территории.
Характерным моментом проекта было то, что, облекая столь большим доверием и правами адыгейских князей и дворян, он учитывал в то же время и необходимость некоторого обуздания их произвола. Русское командование внесло в проект ряд пунктов, составленных исходя из признания остроты социальных противоречий у бжедухов. Оно не могло не считаться по военно-тактическим соображениям с фактами глубокого возмущения и недовольства широких масс адыгейского народа бесконечными насилиями князей и дворян, в силу чего члены суда обязывались обеспечивать «воздержание князей и дворян от злоупотреблений их прав и преимуществ в отношении к простолюдинам». Под злоупотреблениями следовало понимать «всякие самопроизвольные, несправедливые и насильственные действия в отношении к простолюдинам, как, например, незаконный захват их собственности или наложение незаконной повинности».
Одновременно с этим проект категорически запрещал тфокотлям «всякое непризнавание действительных прав и преимуществ князей и дворян и ослушание против них в исполнении того, что народными обычаями повелено и установлено». Суд обязывался побуждать «простолюдинов к точному и беспрекословному выполнению ими законных обязательств в отношении к князьям и дворянам». В заключение подчеркивалось, что «оба сословия, как владетельное, так и подвластное, должны для обеспечения порядка и спокойствия строго соблюдать и уважать взаимные свои отношения, освященные временем и утвержденные народным обычаем».
Определяя общий порядок отношений адыгейской феодальной верхушки и народной массы, проект не мог не коснуться также и отношений бжедухских князей и дворян с русским правительством. Особенно интересны правила, которые предусматривают возможность случаев измены и принятие изменившими повторной присяги. Изменивший дворянин или князь мог получить полное прощение только, тогда, когда он «прослужит не менее двух лет в Варшаве или других отдаленных местах и доброю службою загладит преступление измены».
Таким образом, высшее русское командование по-прежнему упорно продолжало рассматривать князей и дворян в качестве вершителей судеб адыгейского народа. Однако русские власти не могли не замечать и игнорировать все более растущее значение старшинской верхушки тфокотлей—тоховов. С нею им постоянно приходилось сталкиваться, вести переговоры и устанавливать определенный круг взаимоотношений. И там, где в 20— 40-х годах XIX в. эта верхушка сумела окончательно занять ведущую политическую роль, местное начальство, не стесняясь, гримировало ее в официальной переписке с вышестоящими инстанциями под старое адыгейское дворянство. Это вполне устраивало обе стороны. Влиятельный шапсугский или натухайский старшина не возражал против того, чтобы его именовали «почетным», «почитаемым соотечественниками» и даже «дворянином». Казачье же войсковое начальство, считаясь с конкретной обстановкой и реальными жизненными фактами, тем более не склонно было ломать себе голову. Без всякой тени смущения оно использовало влияние старшин и находило это для себя весьма удобным. Войсковые власти, несмотря на время от времени повторявшиеся окрики из Петербурга, были готовы даже надеть на их плечи русские офицерские эполеты. Отдельные представители казачьей администрации весьма откровенно высказывали мысль, что от этих офицеров куда больше будет пользы, чем от прапорщиков и поручиков потомственного дворянско-княжеского происхождения. Но Петербург оставался Петербургом, и оттуда постоянно напоминали о том, чтобы при ходатайствах о производстве в офицерские чины кавказское начальство ни в коем случае не представляло бы лиц «податного состояния».
Атаман Черноморского войска генерал Кухаренко в конце января 1854 г. разослал за Кубань гонцов бжедухских сословий для обсуждения проекта «тгарко-ххас». К 15 февраля большое количество адыгейских дворян и князей прибыло в Екатеринодар. Несмотря на всю торжественность, какую стремились придать этому совещанию войсковые власти, дело шло плохо.
Прежде всего выяснилось, что тфокотли демонстративно отказались прислать своих депутатов.
Таким образом, совещание прошло при полном отсутствии представителей «простого сословия» бжедухов. 18 февраля оно было распущено, не дав тех результатов, на которые рассчитывали как адыгейская знать, так и русское командование. Дворянско-княжеская конституция бжедухов, которая должна была утвердить господство адыгейской знати над массой тфокотлей, повисла в воздухе.
Политический саботаж тфокотлей, сорвав екатеринодарское совещание, ликвидировал вместе с тем и законодательную попытку русских властей остановить падение политической роли и значения старой адыгейской военно-феодальной аристократии. После этого последней ничего более не оставалось делать, как, вернувшись домой, перейти от конституционно-политических дебатов и деклараций к обычной практике вооруженного воздействия на непокорных подвластных. Однако так долго продолжаться не могло.
В 1856 г. выведенные из терпения тфокотли потребовали от князей и дворян полного отказа от их феодальных прав и привилегий. Как и следовало ожидать, в результате развернулась жестокая вооруженная борьба. Решающее сражение между дворянско-княжескими войсками и ополчением тфокотлей произошло на левом берегу Кубани, возле аула Понежукай. В этой битве, известной у адыгов под именем Пшиоркзауо, войска бжедухской знати потерпели полное поражение. Большое число дворян было убито и захвачено в плен. Из числа плененных уорков тфокотли даровали жизнь и позволили поселиться на прежних местах только тем, которые торжественно поклялись навсегда отказаться от своих владельческих прав. Все остальные князья и дворяне покинул родину и расположились отдельным аулом на р. Уанабот притоке р. Чибий.
Сын последнего владетельного бжедухского княз: Тархана Хаджимукова, офицер 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска, так рассказывает об этих событиях: «Вспыхнула революция, причем многие князья и дворяне поплатились жизнью, а другие бежали и отдались под защиту русских».
Народы Западного Кавказа (По неизданным запискам природного бжедуха князя Хаджимукова). С. 47—48.
В 1858 г. бжедухи приняли решение официально перейти в русское подданство. Ведя переговоры по этому поводу с русским командованием, бжедухские старшины от имени всех тфокотлей выставили условие, чтобы никого из изгнанных бжедухами «пше, тляхотлежей и уорков вновь к себе не принимать». В следующем году они обратились с особым письмом к «Русскому народу», в котором, развивая выдвинутые требования, писали, чтобы русское начальство не доверяло их князьям и дворянам, «...потому что они есть не что иное, как обманщики. То, что они вам говорят, то же передают и нам. Изменщики — то же, что они делают против нас, то же самое делают и против вас» .
Высказав столь нелестное мнение относительно морально-политического облика своей феодальной знати, бжедухские «почетные граждане», переходя к деловой стороне вопроса, решительно рекомендовали вслед за тем русским властям «...умертвить их вероломных дворян или изгнать их из русских владений, так как только тогда водворится мир между черкесами и русскими», а русские найдут в лице бжедухов «не дворян, а искренних и приверженных людей».
Для местной администрации факт социально-политического заката старой бжедухской аристократии был совершенно ясен. В силу этого она, исходя из соображений скорейшего урегулирования отношений с бжедухами, сочла разумным прислушаться к голосу «почетных бжедухских тфокотлей». Это, однако, вызвало бурю негодования бжедухских князей и дворян.
Вскоре адыгейские князья и дворяне, жившие на р. Уанабот, были переселены под прикрытием русских войск на левый берег Кубани и водворены здесь в особом ауле, построенном напротив бывшего Малолагерного поста. Аул этот получил название Тлюстенхабль (дворянский).
Вопрос о сословных привилегиях адыгского дворянства
Одним их главных каналов, по которым происходило включение значительной части адыгейской военно-феодальной знати в ряды господствующего класса России, была ее служба в русской армии.
С первого десятилетия XIX в. начинают встречаться сведения об офицерах из адыгейцев. Как правило, это были князья и дворяне различных племен, не получившие специального военного образования и производившиеся в офицерские чины русской армии исключительно «для поощрения».
Часть этих офицеров относилась к полкам Черноморского казачьего войска, часть же просто числилась по кавалерии. Отдельные из них имели солидный служебный стаж и принимали участие в войне 1812 г. С 20-х годов XIX в. кадры офицеров-адыгов начинают постепенно пополняться окончившими специальные русские военно-учебные заведения. Из их числа вышел ряд офицеров, занявших видное служебное положение в русской военной администрации: флигель-адъютант Николая I бжедухский султан Хан-Гирей, известный историко-энтографическими очерками племен Западного Кавказа; генерал Пшекуй Могукоров и др. Многие из них, поселившись в казачьих станицах, с течением времени стали пользоваться поземельными довольствиями на общих основаниях со всеми казачьими офицерами, совершенно потеряв связи со своими аулами.
Производство в офицерские чины адыгейских князей и дворян рассматривалось русским правительством прежде всего как средство привлечь к себе адыгейскую знать, и служебное положение значительной части этих офицеров было весьма своеобразно. Они не несли регулярной военной службы и привлекались лишь к участию в отдельных военных операциях: «Сии офицеры особенных служб и должностей никаких не исполняют, кроме участвуют в отрядах наших во время экспедиций за Кубанью»,— говорит о них официальная переписка. Для производства в офицеры не требовалось и особых военных заслуг. Нужно было лишь проявить достаточную преданность русскому правительству, что и открывало дорогу к офицерскому чину. Эти офицеры, числившиеся по кавалерии, обычно жили в своих аулах и только в случае особой нужды принимали участие в военных действиях. Таких офицеров было большинство, и лишь меньшая часть их несла регулярную военную службу в конных полках и пехотных батальонах Черноморского войска. Единственным, чисто внешним, отличием, которое несколько выделяло офицеров, не несших регулярной военной службы, являлась особая форма эполет. Им запрещалось носить обычные эполеты со шнурками и кистями.
Значительная часть владельцев левобережных аулов была возведена в русские офицерские чины с наделением их полицейскими полномочиями. Последнее обстоятельство нашло свое выражение в особом распоряжении Николая I, который предписал «возложить на них заведование в полицейском отношении аулами, в которых они проживают». Это означало не только правительственное признание, но и значительное укрепление владельческих прав адыгейских князей и дворян по отношению к подвластному им населению аулов в общей системе управления крепостной России. Здесь на сцену выступал кавказский вариант столь знакомой русскому крестьянину дворянской «отеческой полиции», на которую всегда возлагали большие надежды русские самодержцы.
За выполнение этих новых обязанностей владельцам аулов особого вознаграждения, сверх получаемого содержания, не полагалось. Для большего же побуждения их к энергичному осуществлению полицейской службы Николай I приказал: «...в случае уклонения от точного выполнения возлагаемых на них поручений лишать их жалованья впредь до оказания особых заслуг».
К началу 1842 г. в ведомстве Черноморской кордонной линии числилось свыше ста офицеров-адыгов. Большая часть из них были владельцами аулов, постоянной службы в воинских частях не несли, жалованье же получали «из окладов высочайше назначенных каждому». Остальные служили в полках Черноморского казачьего войска на общих основаниях с русскими офицерами. Они получили и определенные земельные наделы: генералы по 1500 десятин, штаб-офицеры по 400, обер-офицеры по 200 десятин.
Дворянская адыгейская молодежь воспитывалась в русских военно-учетных заведениях, по окончании которых зачислялась офицерами в полки регулярной кавалерии и пехоты, расположенные внутри России, с обязательным сроком службы до шести лет. Отслужив этот срок, они могли уходить в отставку.
Воспитание детей адыгейских князей и дворян в русских военно-учебных заведениях преследовало цель создать кадры проводников правительственного влияния в среду их соплеменников и подготовить преданных специалистов-офицеров.
Наиболее отчетливо эти стремления царского правительства были высказаны в 1835 г. шефом жандармов графом Бенкендорфом, который особым предписанием предложил генералу Заводовскому направить для поступления в учебные заведения «детей горцев из фамилий княжеских и дворянских, имея при сем строгую разборчивость, чтобы сии фамилии имели важность по древности существования оных, по особенно важным заслугам, оказанным предками нашему правительству, или, наконец, по уважению в народе».
Тогда же был установлен ежегодный контингент приема детей знати в русские военно-учебные заведения численностью 30 человек.
Тщательно охраняя сословный принцип в области военного образования, царское правительство решительно отказывалось принимать в кадетские корпуса детей недворянского происхождения, несмотря на заслуги их родителей. Так, в частности, из новороссийской азиатской школы, где вместе с сыновьями адыгейских князей и дворян обучались и дети тфокотлей, в кадетские корпуса посылались только сыновья знати.
В отдельных случаях дети адыгейских дворян направлялись в кадетские корпуса по личному распоряжению царя «с доставлением их в Петербург за счет казны».
При назначении на службу молодые офицеры-адыги, помимо особого «вспомоществования», полагавшегося всем воспитанникам кадетских корпусов, получали еще и годовой оклад жалованья, который предписывалось «направлять к полковому командиру с тем, чтобы он покупал для них обмундирование и другие вещи, для кавалерийского офицера потребные». Во все время службы в регулярных кавалерийских полках они в отличие от русских офицеров получали двойной оклад жалованья, ставивший их в гораздо более выгодное материальное положение.
Сохранился ряд прошений офицеров-адыгов, окончивших русские военно-учебные заведения, отслуживших положенный им шестилетний срок в армии, затем пробывших несколько лет дома и снова просивших разрешить им вернуться на службу.
В основе этого явления, несомненно, лежали те социальные сдвиги, происходившие в жизни адыгского общества, которые приводили к потере старой военно-феодальной знатью ее прежнего привилегированного поло-жения. Терпя поражение в борьбе с поднявшимся против ее закрепостительных стремлений свободным населением — тфокотлями, она искала выхода из создавшейся ситуации. Часть князей и дворян вплоть до времени Крымской войны надеялась найти поддержку Турции при возможном переходе Кавказа под ее власть, другая же часть рассчитывала на помощь правительства России.
Царизм в отношениях с адыгской дворянско-княжеской знатью широко применял систему раздачи подарков, субсидий и пенсий, отпуская на это крупные денежные средства. Одной из важнейших привилегий, предоставлявшихся князьям и дворянам, было право пользоваться дополнительной запашкой земли на правом берегу Кубани и пасти там стада под защитой русской кордонной стражи.
Для этого им разрешалось переправлять через Кубань своих крепостных людей, перевозить земледельческие орудия, устраивать там коши для зимовки скота и даже основывать постоянные поселения хуторского типа. Всего в течение первых четырех десятилетий XIX в. адыгейским пши, уоркам было дано свыше ста разрешений на постройку хуторов на правом берегу Кубани.
Насколько большое значение придавало данному вопросу русское правительство, можно судить по тому, что он явился даже предметом специального рассмотрения в Комитете министров. На заседании, состоявшемся 10 апреля 1817 г., было принято решение позволить адыгским дворянам иметь запашку на русской территории. Оно было утверждено Александром I, который в своей резолюции дополнительно предписал: «Особенно наблюдать, чтоб оные владельцы не имели от местного начальства никаких притеснений и чтоб не было с них сбора денег ни на какие земские повинности или расходы».
К 30-м годам XIX в. на правом берегу Кубани вырос целый ряд хуторов, принадлежавших адыгским князьям и дворянам. Это были довольно мощные земледельческие хозяйства, обслуживавшиеся трудом крепостных, причем засеваемая площадь земель была настолько велика, что во время уборки урожая владельцам их приходилось дополнительно присылать из-за Кубани по 130—150 человек своих «подвластных». В отдельных случаях войсковые власти считали возможным даже посылать казаков на уборочные работы в хутора князей и дворян.
Хозяйственная деятельность на российской территории не мешала князьям и дворянам по-прежнему совершать набеги на закубанские аулы и захватывать у жителей их скот и имущество.
Подобным же образом поступали и все другие представители адыгской феодальной знати, как жившие за Кубанью, так и переселившиеся в хутора, построенные ими на ее правом берегу под покровительством русских властей.
Весьма важной привилегией также для князей и дворян было право сбора ими торговой пошлины, или курмука, со всех адыгов, приезжавших на русские меновые дворы, ярмарки и базары. Для большего удобства обладателей этой монополии смотрителям русских меновых дворов предписывалось самим собирать курмук и передавать его затем «им в руки весь без остатка». Право сбора курмука признавалось русскими властями за князьями вплоть до 1859 г. Причем к этому времени курмук выражался в весьма солидных размерах, достигал 30 копеек серебром с каждой арбы, переправлявшейся на правую сторону Кубани. Только в 1859 г. русские власти сочли неудобным дальнейшее существование сбора курмука и запретили его. Причинами, заставившими это сделать, были, с одной стороны, все более становившийся очевидным факт потери дворянско-княжеской знатью ее прежнего значения, а с другой — то, что курмук сильно препятствовал дальнейшему росту торговли.
В отношениях между царизмом и адыгским дворянством оставалось много неопределенного в смысле юридического оформления сословных прав и привилегий. Всемерно поддерживая знать и видя в ней главную опору, царское правительство не решалось в то же время распространить на нее все права русского дворянства.
Объяснялось это главным образом тем, что адыгские князья и дворяне обнаруживали большую политическую неустойчивость. Оказавшись между двумя боровшимися силами — царской Россией и Турцией, за спиной которой стояли европейские державы, они стремились найти наиболее выгодный для себя политический курс и закрепить при помощи одной из сторон свои владельческие притязания по отношению к тфокотлям.
В такой сложной политической обстановке адыгскому дворянству не раз приходилось взвешивать шансы противников и менять внешнеполитическую ориентацию.
В силу этого они то штурмовали русские укрепления под турецкими знаменами, то приносили присягу русскому правительству «с клятвенным удостоверением», что «приверженность свою всероссийскому престолу» будут соблюдать «свято и ненарушимо».
Наиболее дальновидные из них, выполняя требования турецких властей, старались в то же время сохранять видимость лояльных отношений и с русским командованием.
В годы Крымской войны, когда турецкие войска заняли все Черноморское побережье от Тамани до Сухуми и разрушены были все находившиеся здесь русские укрепления, многие офицеры-адыги, служившие в русской армии, полагая, что Кавказ потерян для России навсегда, пытались установить связь с командованием турецких войск.
Наиболее ясными были права адыгских дворян, окончивших русские военно-учебные заведения и служивших в качестве офицеров в армии. По отношению к ним как в правительственных кругах, так и у Кавказского командования не возникало никаких сомнений относительно их сословно-привилегированного положения, и они становились признанными членами правящего класса России со всеми вытекавшими правами и привилегиями. Это коснулось и прав их землевладения.
Что касается «неслужащих горских офицеров», то наиболее дальновидные из них, по мере того как определялся конечный исход борьбы за Кавказ, также «стали требовать закрепления за ними искони будто бы принадлежавших им земель, указывая при этом такие пространства, заключавшие в себе десятки тысяч десятин, какие казались более выгодными для них».
Относясь в общем довольно скептически к этим притязаниям, царское правительство России тем не менее шло им навстречу. На основании утвержденного в 1868 г. Александром II проекта Кавказского комитета по распределению земель Кубанской области в руки адыгского дворянства отошло 97 722 десятины земли. Но еще до этого, при проведении в 1867 г. у горцев крестьянской реформы, многие представители знати получили крупные земельные наделы. Так, генерал-майор султан Адиль-Гирей получил 13 тысяч десятин, генерал-майор Пшекуй Могукоров — 1140 десятин, полковник князь Лоов — 3909 десятин и т. д.
В ином положении оказались те дворяне, которые, переоценив военно-политическое могущество Турции, боровшейся с царской Россией за утверждение на Кавказе, не включились своевременно в русло правительственной политики и в ходе борьбы с тфокотлями к 60-м годам XIX в., окончательно потеряв своих крепостных и рабов и не получив крупных земельных наделов, образовали значительную группу людей, которым, по словам современника, «судьба вручила лопату и топор, как бы насмехаясь над их наследственной гордостью». Царское правительство не лишило их формально дворянского звания, но не решилось в то же время распространить на них права и привилегии русского дворянства.
Очерк пятый Отношение российской администрации к адыгским рабам, крепостным и их владельцам
Бегство адыгских рабов и крепостных в Россию и причины этого явления
Вопрос об отношении русского правительства и кавказских властей к адыгским крепостным и рабам, искавшим убежища в России, не привлекал до сих пор должного внимания исследователей. Между тем он представляет большой научный интерес, и изучение его позволяет выяснить многие стороны того сложного переплетения политических и социальных моментов, которое имело место в жизни адыгов в конце XVIII — первой половине XIX в.
Изучение документальных материалов, относящихся к этому вопросу, позволяет прийти к следующим выводам:
1. В напряженной борьбе, протекавшей в XIX в. между Россией и Турцией вместе с поддерживавшими последнюю европейскими государствами, противники, стремясь утвердиться на Кавказе, наряду с методами военного характера широко использовали и внутренние социальные противоречия у адыгов. В частности, русский царизм, оказывая всемерное покровительство феодальной знати, охотно использовал в своих интересах социальную рознь между «зависимыми сословиями» и адыгским дворянством.
2. Бегство адыгских крепостных и рабов в Россию было не чем иным, как своеобразным проявлением социальной борьбы внутри их общества, где рабы и крепостные не могли найти союзников среди свободных общинников — тфокотлей, энергично выступавших против закрепостительных тенденций дворянско-княжеской знати. Происходило это потому, что значительная часть тфокотлей, отстаивающих собственную свободу от покушений на нее дворян и князей, сама владела рабами и крепостными и не склонна была становиться на путь их освобождения.
Со времени поселения Черноморского казачьего войска на Кубани военные власти сталкивались с фактами перехода на русскую территорию значительного количества адыгских крепостных и рабов, искавших убежища от произвола своих владельцев.
Возраставшие крепостнические тенденции военно-феодальной знати «аристократических племен» и старшинской верхушки «демократических племен» приводили к усилению феодально-крепостнического гнета, его распространению вширь и вглубь. Эксплуатация крепостных крестьян в это время принимала настолько суровые формы, что ее не могли уже прикрыть традиционные идиллические институты поручительства и договора (дефтер). В этом обстоятельстве и следует видеть главную причину бегства в Россию.
Другим не менее важным стимулом бегства зависимого адыгского населения была работорговля.
От первых двух десятилетий XIX в. сохранился ряд ведомостей с перечнем беглых крепостных, допрошенных атаманской канцелярией Черноморского казачьего войска. В графе «за какою надобностью прибыл» записывалось: «Оные черкесы, как объявляют, укрываясь от притеснений и рабства владельцев их, просят о принятии в подданство российскому престолу».
Командование, столкнувшись с фактами постоянных переходов на русскую сторону Кубани таких беглецов, естественно, должно было определить свое отношение к ним.
Остановимся на отдельных категориях «закубанских выходцев».
Наиболее значительный процент беглых составляли те рабы и крепостные, для которых их зависимое состояние было новым, то есть они попали в рабство или крепостное состояние сравнительно недавно, вследствие социальных сдвигов, происходивших в адыгском обществе. На допросах многие показывали, что, оставшись в детстве сиротами, они попали затем «обманным образом» в руки состоятельных соотечественников, которые перепродали их в отдаленные аулы, вследствие чего они и потеряли свободу. Желание освободиться не покидало их, и они, узнав, что «от напрасно присвоенного им крестьянского названия можно найти в пределах России защиту, покровительство и вольное жительство», бежали.
Сын абадзехского тфокотля, четырнадцатилетний Мусса рассказывал в Управлении Черноморской кордонной линии: «Семейство, в котором я получил существование и воспитание, пользовалось сперва правами свободы, потом было разграблено, порабощено и распродано в разные руки. Я был куплен турком, жительствующим на реке Шебш. Я жил у него в участи раба около года. Наконец бесчеловечное обращение его со мной вынудило меня бежать к русским и искать их покровительства».
Многие дворяне сделали своего рода промыслом охоту за членами семей обедневших и разоренных тфокотлей с целью вовлечения их в крепостную зависимость, и не столько ради использования их труда в хозяйстве, сколько для превращения в объект торговли.
Там, где трудно было действовать открытой силой, ими пускался в ход обман. Например, в 40-х годах XIX в. шапсугский дворянин Анцок, разъезжая по аулам, намечал жертвы из числа бедных юношей-сирот, уговаривая каждого отдельно, обещал «иметь его за родного сына и обучать грамоте», и, когда молодой человек давал согласие, он увозил его и продавал в горы.
Что касается крепостных и рабов, потомственно принадлежавших различным категориям владельцев, то здесь главной причиной бегства была боязнь продажи членов их семейств в рабство в Турцию. Как известно, адыгское обычное право, разрешая унауту иметь семью de facto, решительно отказывалось признать эту семью как узаконенный общественный институт, и она находилась в полном распоряжении владельца. Однако и семьи пшитлей, признававшиеся адатом, по многочисленным свидетельствам, также не были надежно ограждены от покушений владельцев, часто продававших родственников порознь.
Не останавливаясь на описании всех сохранившихся материалов, укажем, что свыше 1500 из общего количества изученных показаний беглых говорят об этом с исчерпывающей полнотой. Обычно в этих показаниях звучала такая жалоба: «Владелец мой хотел жену и детей моих продать как невольников к туркам, и я, дабы не разлучаться с семейством, решился навсегда предаться под покровительство русских».
Если существование общинной организации у адыгов являлось для свободных тфокотлей в известной мере фактором их успехов в борьбе с крепостническими притязаниями военно-феодальной знати,- то для раба и крепостного эта организация в описываемый период времени ничего не давала. Община не вмешивалась в отношения между владельцами и их крепостными, подобно тому как и знать, в свою очередь, не вмешивалась в отношения между тфокотлями и людьми, находившимися у них в зависимости.
Крепостной или раб не мог найти защиту у общины даже в случае покушения со стороны владельца на его жену, что бывало довольно часто. В 1842 г. пятеро крепостных богатого шапсугского тфокотля Циока: Гакар, Алебий, Гасан, Веситль и Укуль, перебежав на русскую сторону, показали, что их владелец делал им «жестокие тиранства и притеснения», затем начал ходить к их женам и «намеревался сделать с ними прелюбодеяние». Заметив его намерение, они сначала просили его «сего избегнуть» и, по их словам, «пристойно напоминали закон религии, но Циок не оставлял сего и еще более начал усиливаться». Оскорбленные пшитли стали думать о мести, и скоро им представился благополучный случай. 20 мая Циок приехал в кош, где находились его стада под надзором названных беглецов. Произошла ссора, во время которой они, как сами откровенно признались на допросе, «пришедши в азартность, повалили его на землю и закололи кинжалами».
Многие беглые рабы и крепостные, порвав с безрадостным прошлым, придя на русскую сторону Кубани, приносили с собой страстную ненависть и жажду мщения бывшим хозяевам, разрушившим их семьи. Многие из них, служа в казачьих полках, получали звания урядников, награждались орденами и медалями.
Стремление беглых адыгских крепостных и рабов служить в царских войсках особенно усилилось в годы Крымской войны, когда снятие русских береговых укреплений, прекращение крейсерства и оккупация союзниками ряда важных торговых пунктов Черноморского побережья вызвали новый подъем работорговли с Турцией.
Среди беглых, уходивших от своих владельцев в Россию, наибольший процент составляли унауты и пшитли. Процесс экономического и политического роста старшинской верхушки «демократических племен» сопровождался усиленным обрастанием ее представителей новыми контингентами зависимых людей. Сокрушая могущество дворянской аристократии, разбогатевшая и пользовавшаяся политическим влиянием верхушка тфокотлей отбирала у нее и наиболее ценное — крепостных крестьян. Это своеобразное явление имело место, в частности, у шапсугов, когда они провели конфискацию значительной части пшитлей у своих дворян в качестве политической репрессии.
Большая часть этих крепостных попала в руки старшин, остальная перешла к наиболее влиятельным тфокотлям. К сожалению, почти полное отсутствие письменных источников у адыгов не позволяет проследить в деталях судьбу дворянских крепостных и их хозяйств, поступивших во владение старшин и зажиточных тфокотлей, однако и те скудные сведения, которые до нас дошли, не оставляют сомнений в том, что этот переход сопровождался острыми коллизиями и возникающими на их почве конфликтами.
Получая бывшего дворянского крепостного, обычно ведшего самостоятельное хозяйство, расчетливый тфокотль не склонен был связывать себя дефтером, который существовал между полученным им крепостным и его прежним владельцем, а начинал с того, что переводил на свой двор часть его скота. Объективно это значило, что с переходом в руки богатого тфокотля дворянскому крепостному отнюдь не становилось лучше ни в смысле условий труда, ни в правовом отношении.
По свидетельству Каламбия, рисующего жизнь бжедухского аула середины XIX в., адыгейский дворянин имел право в любой момент всадить кинжал в грудь дерзкого холопа и не нес за это никакой ответственности, но в то же самое время крепостной будто бы никогда не позволял своему господину «возложить десницу на свою физиономию», так как «это унизительное проявление гнева неизвестно еще между адыгами».
Богатый адыгейский тфокотль отказался от такой феодальной романтики.
Бывали случаи, когда новые хозяева, «придя в азарт», наносили непокорным такие телесные повреждения, что они умирали от «тяжких побоев».
Часто к стенам русских укреплений выходили истощенные от голода, избитые крепостные, которые предварительно по нескольку дней прятались в лесу, прежде чем решиться укрыться у «гяуров». Заслышав же за собой погоню и не видя другого выхода, они бросались «на голос боя барабанов и игры горнов во время утренних занятий солдат гарнизона».
Эти факты убедительно говорят о той остроте социальных противоречий, которые существовали внутри адыгского общества и выражались не только в борьбе тфокотлей с дворянской верхушкой, но и в протесте закрепощенной части населения против всех душевладельцев вообще, независимо от их места на общественной лестнице.
Более смелые и предусмотрительные пшитли, приняв решение бежать в Россию, производили предварительно своеобразную разведку. Явившись в укрепление, они добивались свидания с его начальником и расспрашивали, что их ждет после перехода.
Средний размер имущества, лично принадлежавшего адыгским крепостным, которое они перевозили с собой при бегстве в Россию, обычно был таков: две-три пары рабочих волов, девять-десять штук гулевого скота, одна-две лошади, арбы, одно-два ружья, шашки, кинжалы, один-два топора, несколько медных кувшинов, несколько подушек, одеял, циновок.
Наиболее удобным для побега крепостных было время, когда их хозяева участвовали в походах: тогда они, «дабы не упустить такого удобного и свободного случая», по горным тропам спускались к русским укреплениям.
Особенно страдали от перемены владельца те из бывших дворянских крепостных, которые разбогатели и достигли значительной экономической мощи и о которых в русской официальной переписке говорилось, что у адыгов «иногда холоп бывает богаче своего господина». Попав в порядке конфискации к новым владельцам, они тотчас же стремились выкупиться у них на свободу. По существу, это была своеобразная прослойка несвободных зажиточных крестьян, которые, имея потомственную рабскую родословную, временно мирились со своим общественным положением под надежной защитой сильного адыгского дворянина, ибо последний обеспечивал им возможность относительно спокойной хозяйственной деятельности и даже считал допустимым связывать себя с ними узами аталычества. Для этой социальной категории адыгского общества переход в руки новых владельцев, принадлежавших к аульной верхушке тфокотлей, был несомненной хозяйственной катастрофой, избежать которой можно было лишь путем выкупа и включения себя в состав полноправных членов аульной общины. Посягнуть же на сам институт выкупа крепостных победившие дворян тфокотли не решались.
Мощные экономически крепостные семьи не были единичным явлением. Убежавший в апреле 1841 г. натухайский пшитль Хузен захватил с собой весь свой собственный скот в количестве 20 коров, 31 овцы и 3 лошадей. У ога, подвластного Тугузу Едигееву, было 30 голов рогатого скота, 100 баранов и 100 ульев пчел.
Бежавшие в мае 1834 г. из-за Кубани и поселенные в ауле Ады двадцать семейств адыгских крепостных согласно официальному отчету вообще «не имели никаких собственных пожитков, а были наги».
В сентябре 1840 г. генерал Заводовский просил ассигнования особой суммы для «закубанцев». На основании этого ходатайства в его распоряжение было отпущено 100 рублей серебром. На продовольствие же беглых в течение первого года их пребывания на русской территории каждому взрослому отпускалось по 10 копеек, а детям по 5 копеек серебром в сутки.
Нельзя не отметить выход вместе с пшитлями и унаутами также и русских рабов. Печальная участь раба была тяжкой долей всех кавказских пленников, которых некому было выкупить. На основе общих тяжелых условий жизни между русскими и адыгскими рабами возникла возможность своеобразного социально-политического контакта, способствующего попыткам совместного бегства. Анапский поселянин Леонтий Матвеев, бежавший в декабре 1838 г. в Абинское укрепление вместе с четырьмя рабами-шапсугами, показал, что он был захвачен в плен в 1835 г. при лесной фуражировке. Попав в руки богатого шапсугского тфокотля Сельтшако, находился у него «на хуторе со скотом». Владелец истязал его тяжким трудом и побоями, и Матвеев решился бежать. Сговорившись с четырьмя рабами, жившими вместе с ним, и захватив 22 штуки рогатого скота своего хозяина, они по горным тропам вышли благополучно к Абинскому укреплению. Подобных примеров можно привести много.
Характерно, что именно русские пленники были инициаторами таких коллективных побегов. Особенно интересной категорией среди выходивших в Россию рабов были «метисы», то есть люди, происходившие от отца — русского пленника и рабыни — адыгейки. Их показания после удачного побега, зафиксированные в документах, могли бы послужить сюжетом не для одного варианта повествования о «кавказском пленнике», столь популярного в русской литературе XIX в.
Помимо рабов и крепостных, в списках беглых, переходивших в Россию, встречается довольно значительное количество имен «вольных черкес простого звания», то есть тфокотлей, ставших жертвой различных грабительских наездов и после захвата членов их семей в рабство также искавших убежище в России.
Шапсугский тфокотль Девлет Натхо показывал, например, что он «вольного происхождения, жил на речке Бугундырь собственным домом, имеет двух жен и четырех человек детей». Вследствие непрерывных покушений на его имущество и постоянных попыток со стороны соседних дворян уворовать его детей, он вместе с семьей «оставил прежнее жительство и прибегнул под покровительство России». Тфокотль Сельмен Бзассо, спасаясь от опасности разграбления, сумел увести с собой не только свою семью, но и семью своего крепостного в количестве четырех человек, а также 6 штук рогатого скота и 22 овцы.
Один из современников, прекрасно знавших нравы военно-феодальной знати,— Хан-Гирей оставил необычайно яркое описание наездов князей и дворян на крестьянское хозяйство тфокотлей. Он рассказывает, что весна и осень были излюбленным временем для этих грабительских мероприятий. Князья, собрав партию молодых дворян, выезжали «в поле». Выбрав удобное место, они располагались там на всю осень или весну. Ночью их служители и дворяне совершали набеги на близлежащие неприятельские аулы, угоняя быков и баранов. Лучшие наездники, не довольствуясь этим, отправлялись далеко в глубь территории, где захватывали табуны лошадей и пленников. С богатой добычей они возвращались к товарищам, «которые, всякую ночь пируя на счет оплошных жителей окрестных аулов», с нетерпением ожидали их.
Перед отъездом домой производился раздел захваченного имущества между всеми участниками экспедиции. Особую часть получали князь-предводитель и его ближайшие сподвижники, вся остальная добыча делилась на равные доли по числу людей, входивших в отряд. Лошади и пленники обычно здесь же променивались на товары, доставлявшиеся на стоянку предприимчивыми купцами. Шкуры съеденных быков и баранов шли в пользу поваров, обслуживавших «веселый» лагерь.
В прикубанских аулах разбойничьи набеги дворян на жилища тфокотлей часто сопровождались убийствами их хозяев, трупы сбрасывали в Кубань.
Нельзя не остановиться еще на одной категории беглых — девушках и женщинах адыгейках, которым угрожала продажа в Турцию со стороны их родственников, с чем они не хотели примириться. Не только в крестьянских, но зачастую и в дворянских семьях девушка являлась дорогим товаром, который поступал в продажу в случае нужды, причем цена особенно возрастала, если девушка была грамотна.
Слухи о том, что бегство в Россию может избавить от участи невольницы, доходили и в горы, побуждая многих бежать в русские укрепления. На страницах официальных документов, в их сухом канцелярском повествовании отразилось немало семейных конфликтов, в которых страдающей стороной была женщина. Отдельные донесения дают трогательные, волнующие рассказы о смелых решениях младших членов семей (обычно дочерей и младших братьев) выступить против воли отца или старшего брата во имя избавления от рабства. Однако семейное право являлось очень суровым, и найти поддержку против решения главы семьи на стороне было нельзя. Вот почему, когда продажа в Турцию становилась грозной реальностью, многие горянки, «не желая этого и зная по слухам, что в России жить лучше», тайно покидали свой аул и бежали «под покровительство русских».
Не менее предприимчивы и решительны были и влюбленные молодые люди, на пути которых к личному счастью стояли калым, несогласие родителей или же, наконец, разница в общественном положении. Сговорившись друг с другом, они также часто бежали в Россию. Это отмечал даже английский политический агент Белль. Он рассказывал, что богатый убыхский старшина, у которого он жил, должен был заплатить согласно адату 60 быков штрафа за своего раба, поскольку тот, сговорившись с женой свободного горца, бежал вместе с ней в Россию.
Сравнительно небольшую группу беглецов, о которой все же следует упомянуть, составляли круглые сироты дети и подростки. Испытав немало горя и нужды на родине, живя в вечно полуголодном состоянии, они, узнав о готовящейся продаже их в Турцию, предпочитали бежать к русским. Таких сирот обычно немедленно отправляли на Дон и поселяли в бездетных семьях казаков Донского казачьего войска.
Прием беглых адыгских рабов и крепостных русскими властями как средство воздействия на их владельцев
Каково же было отношение русского правительства и местных кавказских властей к беглым адыгским крепостным крестьянам и рабам?
Отвечая на это, предварительно нужно коснуться некоторых общих правительственных распоряжений по вопросу о рабах и крепостных.
В 1799 г. Павел I распорядился из каждой партии захваченных в плен «ясырей», принадлежавших горским владельцам, одну половину отдавать русским помещикам, а другую определять в рекруты во внутренние губернии России. В то же самое время он узаконил продажу «ясырей» адыгскими князьями и дворянами в г. Екатеринодаре. В 1804 г. было издано новое правительственное распоряжение, запрещавшее торговлю невольниками, вывозившимися из-за Кубани, а через четыре года, в 1808-м,— распоряжение о том, чтобы всех «ясырей» считать свободными. Но одновременно с этим русскоподданным как христианского, так и магометанского вероисповедания разрешалось выкупать из-за Кубани пленников, которые должны были оставаться у них «в услужении» некоторое время, если они не могли внести деньги, за них уплаченные, и лишь после этого становились свободными. В 1827 г. кочующие в Кавказской области магометане могли «принимать в число своих обывателей холопов и ясырей, выбежавших из-за Кубани».
Но эти законоположения не определяли с достаточной четкостью всех тех категорий закубанских выходцев, о которых шла речь выше. Кроме того, и сама терминология правительственного законодательства страдала большой неясностью, в силу чего под понятие «ясырей» (рабов) могли быть подведены все категории зависимого адыгского населения. Да и местные начальники далеко не всегда ясно представляли, каково было положение за Кубанью того или иного беглого, и переносили на них привычные понятия крепостной русской действительности, вот почему часто в донесениях об адыгских беглых мы читаем о «дворовых», которые бежали от своих «помещиков», о «помещичьих тиранствах» над ними и т. д.
Постоянно сталкиваясь с фактами выхода из-за Кубани беглых крепостных крестьян и рабов, русские военные власти постепенно усвоили особую тактику и образ действий как по отношению к ним, так и по отношению к их владельцам. Наиболее разбиравшиеся в политической обстановке должностные лица скоро поняли, что беспрепятственный прием беглых крепостных и невозвращение их явятся прекрасным средством воздействия на их владельцев.
Что же касается богатой верхушки тфокотлей «демократических племен», то документы подчеркивают ее страстное стремление сохранить в незыблемости существовавшие формы зависимого труда и добиться возвращения бежавших в Россию рабов и крепостных.
Отсюда, естественно, нащупывалось слабое место, по которому можно было наносить удары, принимая беглых, и этим связывать политическую инициативу князей, дворян и старшин враждебной ориентации и заставлять их выполнять требования царского правительства.
Кроме того, адыгские владельцы, обеспокоенные непрерывно усиливавшимся бегством рабов и крепостных в Россию, вплоть до заключения Адрианопольского мира не раз апеллировали к турецким властям на Кавказе, требуя их вмешательства, а это, в свою очередь, заставляло русское правительство временами изменять тактику и воздерживаться от приема беглых или же, во всяком случае, не оформлять его официально.
Турецкая сторона на протяжении всей первой четверти XIX в. постоянно напоминала русской администрации, что та не имеет права принимать беглых в силу существующих договорных соглашений между Россией и Турцией. Были случаи, когда по вопросу об отдельных беглецах «переписка доходила до Константинополя, и если этих беглецов не удавалось спрятать, то приходилось их возвращать «из уважения к ходатайству турецкого правительства».
В 1796 г. атаману Чепеге было дано секретное указание о беспрепятственном приеме выходцев из-за Кубани, причем ему предписывалось объявлять этим беглецам, что им будет пожаловано «десять лет льгот от всяких повинностей государственных», и затем отправлять всех их в Симферополь.
Изданный в 1800 г. Павлом I указ, запрещавший переход горцев из-за Кубани, не имел серьезных последствий: продолжали переходить дворяне, искавшие временного укрытия на русской территории, перебегали и крепостные.
Наибольшая часть выходцев поселялась в так называемых мирных аулах, на левом берегу Кубани, против укреплений Черноморской кордонной линии, на положении свободных «поселян», другая часть направлялась на Дон и зачислялась там в полки Донского казачьего войска, и лишь небольшое количество оставалось внутри самой Черномории, в Гривенской черкесской станице и селении Ады.
Разрешение беглым рабам и Крепостным обосноваться в левобережных мирных аулах способствовало увеличению вблизи укреплений адыгского населения, которое в силу своего положения должно было оставаться верным русскому правительству, так как всякий переход выходцев на занятую их соплеменниками территорию, откуда они бежали, грозил им новой потерей свободы. Гривенская черкесская станица была основана по распоряжению Павла I в феврале 1799 г. около устья р. Ангелинки покинувшим родину шапсугским дворянином — султаном Али Шеретлу Оглы. Адыги — жители этой станицы, так же как и селения Ады, были включены в состав казачьего войска и несли военную службу. В течение первых двух десятилетий XIX в. беглым предоставлялась довольно широкая возможность выбора нового места жительства. Турецкое правительство решительно настаивало на прекращении приема русскими властями беглых рабов и крепостных. В разгар Отечественной войны, 27 сентября 1812 г., Александр I вынужден был по дипломатическим причинам подписать распоряжение о том, чтобы не принимать «из заграницы, как из Анапы, так и черкесских селений, яко под владением турецким состоящих, людей за исключением русских пленников».
Войсковая администрация, прекрасно понимая, что угроза лишиться крепостных является для знати весьма побудительным средством к скорейшему урегулированию отношений с Россией, часто игнорировала эти запретительные распоряжения и «скромным образом» продолжала принимать беглых.
С кордонов все чаще поступали сообщения о том, что переправившиеся через Кубань беглецы в ответ на угрозу стрелять по ним отвечали: «Убивайте, все равно я должен пропасть!» — и караульные казаки их пропускали. Более того, казаки упрашивали своих командиров не возвращать беглых за Кубань.
Уже в 1821 г. на одном из очередных рапортов атамана Матвеева о беглом адыгском крепостном крестьянине, которого казаки, отказавшись стрелять, доставили в Екатеринодар, А. П. Ермолов сделал распоряжение, гласившее, что этого крестьянина, «как спасавшегося от своего владельца, впредь ни под каким видом не понуждать переходить за Кубань, разве он сам того пожелает».
В октябре того же 1821 г. Ермолов приказал «принимать выбегающих из-за Кубани, подвергающих себя покровительству и вечно подданству российского престола людей». Тогда же он разрешил освободить содержавшихся под арестом в г. Екатеринодаре беглых адыгских крестьян и водворить их на жительство в Гривенской станице.
Небезынтересно отметить, что наряду с душевладель-цами коренного адыгского происхождения большую заинтересованность в закреплении владельческих прав на унаутов и пшитлей обнаружили также и закубанские торговцы — армяне и греки. В феврале 1823 г. большая группа армянских и греческих купцов, живших за Кубанью, выразила желание переселиться на русскую территорию. Получив согласие военных властей, они приступили к" переходу на правый берег Кубани, но неожиданно натолкнулись на сопротивление своих «подвластных», которые не пожелали переходить в Россию вместе с хозяевами, узнав, что это не сулит им освобождения.
Встревоженные купцы направили в Екатеринодар делегата — греческого купца Тентемирова, который потребовал применения русского оружия для воздействия на' не желавших переселяться. Когда же ему было отказано, то армянские и греческие купцы вынуждены были оставить свое намерение.
В 1831 г. было издано официальное правительственное распоряжение, разрешавшее принимать беглецов, уходящих «от несправедливой мести и гонения своих единоверцев», и часть их селить в Черномории. Необходимость оставлять часть беглых в пределах Черномории мотивировалась тем, что «поселение их здесь будет слу-жить им надежным покровительством и заставит быть более признательными к милостям правительства». В 1840 г. правительство распорядилось всех без исключения беглых крепостных из укреплений Черноморской береговой линии отсылать на Дон, а в 1841 г. эта мера была распространена и на горцев, добровольно выходивших на Кавказскую линию.
Будучи зачислены в ряды Донского казачьего войска, они должны были нести военную службу в казачьих полках на общих основаниях со всеми остальными казаками. Следует заметить, что в практике предшествовавших десятилетий, задолго до издания этого правительственного постановления, отправка беглых адыгских крепостных из Черномории на Дон была обычным явлением. Их старались по возможности не оставлять на Кубани, чтобы избежать неприятных объяснений с турецкими властями, отстаивавшими владельческие интересы адыгских князей и дворян. Отправка беглых на Дон производилась согласно официальной терминологии «скромным образом», то есть без оглашения этих фактов, и на запросы анапского паши из Екатеринодара обыкновенно отвечали, что о разыскиваемых беглецах русские власти не имеют никаких сведений. Однако часть их все же оставлялась в Черномории.
Слух о высылке на Дон большинства выходящих из-за Кубани беглых быстро разнесся в горах и сразу же резко снизил число крепостных, переходивших через кордонную линию. То же самое наблюдалось и на Черноморском побережье.
Это было вполне понятно в силу той простой причины, что выходившие не теряли надежды встретиться в будущем со своими родственниками и поэтому желали жить поближе к родине. Уже через два года после издания постановления русское начальство убедилось в необходимости добиваться отмены такого порядка и оставлять беглецов по-прежнему в Черномории. 29 января 1843 г. была внесена правительственная поправка к постановлению, заключавшаяся в том, чтобы, не отказываясь совершенно от отсылки по-прежнему главной массы беглецов на Дон, разрешать все же части их оставаться на жительстве в Черномории.
Это значило, что в правящих кругах царской России прекрасно поняли, каким могущественным средством в деле подчинения социальных верхов адыгского общества правительственному влиянию явится увеличение числа беглых рабов и крепостных, искавших убежище в России.
Каково же было положение отправляемых на Дон адыгских выходцев? На основании официальных данных, относящихся к 40-м годам XIX в., оно представляется следующим образом: по прибытии на место назначения они поселялись в казачьих станицах и зачислялись в состав Донского казачьего войска. Каждое такое семейство получало из сумм государственного казначейства безвозвратное пособие в размере 23 рубля 50 копеек ассигнациями на постройку жилищ, 20 рублей на покупку хлеба для посевов и 11 рублей на заведение плугов с принадлежностями. Кроме того, оно получало заимообразно беспроцентную ссуду сроком на четыре года на покупку волов и других «хозяйственных принадлежностей в размере 125 рублей». Бессемейным выдавалось от казны по 6 рублей серебром каждому.
В половине XIX в. срочная ссуда на приобретение рабочего скота также была превращена в безвозвратное пособие.
Что же касается служебных обязанностей бывших адыгских рабов и крепостных, то они, став донскими казаками, несли службу на общих основаниях со своими одностаничниками, но не назначались в полки, командируемые в состав Отдельного Кавказского корпуса.
С 1851 г. район поселения беглых адыгских крепостных был значительно расширен. С декабря этого года они могли направляться в Абхазию, Мингрелию, Цебельду, а также и во внутренние губернии России. Беглые крепостные получали особые письменные виды с указанием, что «они объявляются свободными и с разрешения начальства мо-тут проживать во всех частях империи, где пожелают». Кроме того, в документе всегда подчеркивалось, что освовождение крепостного является наказанием его владельца, враждебного России.
В лице этих людей русские военные власти рассчитывали иметь надежные кадры местного населения, которые можно было использовать в интересах царизма.
Жившие в Черномории адыги вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и скотоводством. До 1829 г. жители Гривенской черкесской станицы не несли никаких войсковых повинностей. С 1829 г. на них была наложена повинность выставлять тройку почтовых лошадей с упряжью, а кроме того, они стали «употребляться в экспедициях против неприязненных горцев» .
Вопрос о бегстве унаутов и пшитлей в Россию всегда сильно беспокоил социальные верхи адыгов, и русскому командованию время от времени становилось известно о собраниях старшин, на которых обсуждался вопрос о том, как прекратить побеги их крестьян и возвратить убежавших, водворенных или просто проживающих в Черномории.
Исходя из этого, местное командование постепенно выработало определенный порядок, выражавшийся в том, что рабы и крепостные возвращались лишь тем владельцам, которые принесли покорность русскому правительству, но при этом возвращались лишь те пшитли и унауты, которые бежали от своих владельцев уже после принесения ими присяги. Те же рабы и крепостные, которые бежали до того времени, когда их владельцы принесли присягу русскому правительству, не возвращались. Вот почему всякий раз при возникновении новых дел о выдаче беглых русское командование наводило справку, был ли требующий возврата беглых владелец в момент их бегства «в мирных отношениях или неприязненных». При этом обычно проявлялась большая пунктуальность.
Такого принципа русское командование держалось довольно твердо и, как правило, категорически отказывало в выдаче беглых владельцам, которые не оформили путем принятия присяги своих отношений к русскому правительству. Те продолжали настаивать, клянясь в верности и преданности. В случаях проявления особой настойчивости владельцами крепостных командование обыкновенно принимало решение не оставлять беглых людей на Кубани, а немедленно отправлять на Дон для зачисления в Донское казачье войско.
Даже когда о возвращении беглых просили не только вновь принесшие покорность, но и зарекомендовавшие уже себя услугами царскому правительству князья и дворяне, русские военные власти обычно не решались выдавать им беглых крепостных и рабов.
Сохранился ряд жалоб, подававшихся в высшие военно-административные инстанции адыгскими дворянами, обиженными отказом вернуть их крепостных. В этих жалобах они клянутся в верности, перечисляют личные заслуги, уверяют, что уже несколько лет, как не делают «ничего противного русскому государю», и требуют возврата беглых. Исчерпав все доводы, некоторые из них в качестве последнего доказательства своей правоты пишут: «Крестьяне же те собственные мои, куплены на собственные мои деньги, а черноморский генерал насильно отнял».
Иногда русскому командованию приходилось иметь дело с коллективными просьбами князей и дворян о возвращении им беглых крестьян. В 1846 г. принесшие присягу России черченеевские и хамышеевские князья и дворяне подали просьбу о возвращении им 125 беглых крестьян.
В результате расследования оказалось, что почти все эти крестьяне служили на русской военной службе в казачьих полках, а четверо из них за боевые заслуги даже были произведены в урядники и награждены георгиевскими, медалями.
Вполне понятно, что русские власти сочли невозможным удовлетворить просьбу князей и дворян о выдаче им (как они писали) их бывших «крестьян и вассалов». Правда, просителям было объявлено, что если их бывшие «крестьяне й вассалы» сами пожелают к ним вернуться, то это им не будет воспрещено.
Конечно, встречались случаи выдачи беглых в отступление от описанного порядка, но они производились тайком, когда в этом были лично заинтересованы представители местной администрации, желавшие поддержать добрососедские отношения с особо влиятельными старшинами и дворянами. Так, по распоряжению генерала Рашпиля был выдан в 1843 г. из Абинского укрепления Смаил Кобле со всей семьей, бежавший от шапсугского старшины Сельмена Тлефа.
Этот эпизод является ярким свидетельством, что представители русской военной администрации в отношении к беглым рабам и крепостным руководствовались отнюдь не сочувствием к их тяжелому положению и мотивами гуманности, а откровенным политическим расчетом. Наименее прочным было положение беглых, поселенных в хуторах адыгских дворян, находившихся на правом берегу р. Кубани, владельцы которых, стремясь сохранить свои дружеские связи за Кубанью, часто не могли удержаться от соблазна вернуть бежавших и поселенных в их хуторах рабов, крепостных прежним хозяевам. Для того чтобы обмануть бдительность русской администрации, им приходилось пускаться на хитрости. Например, беглых крепостных отправляли в глубь территории под предлогом временно поработать у родственников. Как только бывший крепостной переправлялся на левый берег Кубани, его захватывали в плен «неизвестные горцы», и он исчезал без вести. Часто поступали так же и владельцы левобережных мирных аулов, где селилась главная часть закубанских выходцев.
Несмотря на все проявления произвола многих представителей власти, нарушавших существовавший порядок приема закубанских выходцев, бегство крепостных и рабов от владельцев, державшихся турецкой ориентации, как правило, приносило им освобождение.
Совсем иначе обстояло дело с теми крепостными, которые выбегали от своих владельцев тогда, когда последние уже принесли присягу русскому правительству. Их обычно тотчас же под конвоем возвращали обратно. Напрасно они заявляли о желании поступить на русскую военную службу и сражаться вместе с русскими войсками. Ничто не принималось во внимание.
После того как дворяне, не хотевшие оставаться на родине, приносили присягу, им разрешалось переселяться в так называемые мирные прикубанские аулы со своими пшитлями и унаутами, над которыми они сохраняли полностью все права. Вот почему военные власти иногда даже сами не рекомендовали дворянам селиться в Гривенской черкесской станице и в ауле Ады, так как переходящие вместе с ними крестьяне, поселившись здесь, должны были быть зачислены в казаки и получить свободу.
Вполне понятно поэтому, что многие крепостные, переселившиеся вместе со своими владельцами в «мирные аулы» и прикубанские хутора, обманувшись в надеждах получить свободу, пытались бежать в обратном направлении, дабы избавиться от крепостной зависимости.
Одним из весьма существенных средств укрепления экономического положения адыгских дворян, принесших присягу русскому правительству, было официально признававшееся за ними право покупки рабов и крепостных крестьян за Кубанью.
Однако русские власти решительно отказывались удовлетворить требования дворян о предоставлении им права ссылать своих крепостных крестьян в Сибирь или же отдавать их в солдаты. Официальным объяснением отказа было то, что «на это нет постановления» и что они «на владение крестьянами не имеют актов и права их в этом отношении еще довольно неопределительны». Князья и дворяне, владевшие аулами и формально состоявшие на русской военной службе, часто пытались присвоить себе это право. Пользуясь тем, что русские власти не всегда могли провести четкую грань между настоящими крепостными и тфокотлями у «аристократических племен», они зачисляли в разряд своих крепостных и тех «подвластных» им тфокотлей, от которых хотели избавиться.
Вторым ограничением, которое было распространено на адыгских дворян, живших в пределах Черномории и в закубанских аулах, был запрет покупать крестьян у русских помещиков. Однако в этом они не ощущали особенной нужды, потому что многие из них получали из рук русских властей пленных адыгов в обмен на выкупленных ими за. Кубанью русских пленных. Очень часто захваченные в плен вместе со свободными тфокотлями крепостные и рабы, узнав, что они снова должны вернуться на родину в порядке обмена на русских солдат, просили-рус-ское командование, чтобы хотя бы их дети были оставлены в России. Просьбы эти обычно удовлетворялись, и дети пленных пшитлей, унаутов приписывались к семьям бездетных казаков.
Если в числе захваченных за Кубанью адыгских пленных оказывались бывшие крепостные князей и дворян, покинувших родину и служивших на русской военной службе, то этих крепостных по просьбе их владельцев немедленно отдавали им. Причем в таких случаях дворянин получал особое удостоверение на право владения крепостным, в котором указывалось, что захваченный пленник «действительно принадлежит ему в крестьянство, а посему и предоставляется ему право поступать с ними как с собственным человеком».
Волнения адыгов-казаков Черноморского войска в 1844—1846 гг.
Казаки-адыги, служившие в Черноморском казачьем войске, жили в особой станице Гривенской и селении Ады, занимаясь земледелием и скотоводством.
Довольно быстро среди них стала проявляться резкая имущественная дифференциация, и зажиточные казаки-адыги охотно использовали в своем хозяйстве дешевый труд беглецов-новоселов, которые оказывались в очень тяжелом материальном положении. Главным источником их существования в течение первого года жизни на русской территории было небольшое денежное пособие, выдававшееся от казны. Естественно, что они вынуждены были искать пристанища в хозяйстве богатых старожилов и работать у них на кабальных условиях.
Главную роль в жизни населения станицы Гривенской играли офицеры-адыги из числа дворян, перешедших на сторону царизма. Они не могли отказаться от привычных для них социальных воззрений, рассматривая рядовых казаков как «скопище пшитлей», и упорно не желали признавать свою «казачью односословность» с ними. Этот конфликт был отражением на русской территории тех социальных коллизий, которые происходили за Кубанью и которые приводили там к кровопролитным битвам.
Начало недовольства казаков станицы Гривенской связано с действиями полковника (позже генерал-майора) Пшекуя Могукорова. Этот адыгский дворянин на русской службе пользовался большим доверием командования и выполнял ответственные поручения.
Рост хозяйственного благополучия Могукорова начался с того, что он в начале своей карьеры, в 1822 г., из партии захваченных за Кубанью пленников часть взял себе, а часть отдал жившему на Тамани есаулу султану Селим-Гирею. Пленные, попавшие к Могукорову, в качестве якобы вновь приобретенных им крепостных были поселены в его доме, но не были зачислены в казачье сословие. Кроме того, Могукоров присвоил себе отпущенные им от казны скот, пестрядь, сукно и овчины. Используя труд пленников в своем хозяйстве, он начал истощать их непосильной работой и довел до полного изнеможения. Официальное донесение довольно образно рисует состояние этих людей, говоря, что они, находясь «в собственном доме г-на Могукорова, крайне изнурены, как через одеяние, так и через побои». По существу, пленные адыги были превращены в полных и безответных рабов Могукорова. С садистской жестокостью Могукоров выгонял маленьких детей из дома, разрешая им ночевать лишь в холодных сенях. Это привело к тому, что один шестилетний ребенок, «будучи полунагой, искал убежища от стужи около огня и, оставшись в ночи один около мечета (печь.— М. П.), который был натоплен с вечера, и не бывши никем взят в хату, от принуждения стужи влез в мечет, коего, к сожалению, и нашли на другой день поутру рано испеченным».
Этот случай вызвал сильное негодование среди адыгского казачьего населения станицы Гривенской, и есаул Гусаров, враждовавший с Могукоровым на личной почве, воспользовался им для того, чтобы возбудить против него дело. Так как Пшекуй Могукоров обладал значительным влиянием и поддержкой русских военных властей, то следствие над ним тянулось безрезультатно до 1827 г., пока не умер есаул Гусаров. В целях оправдания Могукорова дворяне-адыгейцы станицы Гривенской дали ложное показание о том, что пленные, находившиеся у Могукорова, будто бы были полностью удовлетворены как вещами, так и рабочим скотом и не терпели от него никаких притеснений.
Такая позиция их объяснялась тем, что они, подобно Могукорову, в обход существовавших законоположений также обратили в своих крепостных 120 пленных адыгов и жестоко эксплуатировали их труд.
Более того, пользуясь привилегированным и по существу бесконтрольным положением в «азиатской станице», они повели наступление и на казачьи права ее рядовых казаков-адыгов, стесняя их землепользование, расширяя площадь собственной запашки, сенокосов, пытаясь закрепостить отдельные малоимущие казачьи семьи.
Могукоров после смерти есаула Гусарова самовольно отстранил выборную станичную администрацию от производства дел и, присвоив себе распорядительную власть, заявил казакам, что по воле высшего начальства он отныне их «начальник», которому они должны повиноваться. Взяв бразды правления в свои руки, Могукоров отменил выборность станичных должностных лиц и стал назначать их по личному усмотрению. Окружив себя преданными людьми (сотник Гусейн, прапорщик Дако Ногай, хорунжий Гацук) и поручив им должности станичного атамана и станичных судей, он выделил себе лучшие земельные угодья и запретил в них заниматься «сенокосами и хлебопашеством бедным простым черкесам, а в особенности выбежавшим из-за Кубани».
Одновременно с этим было ликвидировано гласное разбирательство дел в станичном правлении и заменено безапелляционными решениями самого Могукорова. До каких пределов доходил его произвол, можно судить по следующему случаю: сотник Гусейн избил казака Готпша Рождока, и когда тот, не выдержав побоев, изругал Гусейна, то Могукоров приговорил пострадавшего к уплате 250 рублей в пользу Гусейна за оскорбление.
Помимо эксплуатации собственных крепостных Могукоров заставил работать на себя новых поселенцев из числа беглых крестьян.
Беглый шапсугский крепостной крестьянин Пшеон Тлепсук жаловался во время следствия, что он после зачисления в списки казаков станицы Гривенской был взят Могукоровым в качестве работника, трудился у него два с половиной года и получил за это только пять рублей серебром. Попытка с его стороны напомнить, что он, Тлепсук, казак и «находится под покровительством русского правительства», привела лишь к тому, что Могукоров заявил ему: «Я твой бог и царь»(!). Не останавливаясь на этом, Могукоров пошел еще дальше. Он, как показали присланные в Екатеринодар депутаты, творил казакам-адыгам Гривенской «обиды отобранием незаконными путями не только имения, но даже жен и детей».
На почве подобных злоупотреблений столкновение между рядовой станичной массой и офицерской верхушкой стало неизбежным. Оно вызывалось, конечно, отнюдь не только одним произволом распоясавшихся офицеров во главе с Могукоровым, а и тем, что последние стремились возродить те формы общественного устройства, от которых бежало из-за Кубани составлявшее эту станицу население. Объективно это было не чем иным, как перенесением в среду адыгской эмиграции борьбы, которая кипела за Кубанью между знатью и народной массой.
Не будучи в состоянии формально закрепостить всех адыгов-казаков, гривенские офицеры пытались, однако, поставить последних в такие экономические и правовые условия, при которых их власть в качестве станичной администрации должна была мало чем отличаться от власти закубанских дворян в своих аулах. Открыто враждебные по отношению к народным низам настроения Могукорова как нельзя более отчетливо прозвучали в его заявлении, что ни один порядочный человек на него не жалуется, «а все такие, которые недавно выбежали из-за Кубани из-под крестьянства».
Волнения в станице начались в начале июня 1844 г. Группа рядовых казаков: Бату Ротук, Хабоху Борен, Балу Гапач Жаде, Сахут Керзечь и урядник Бзекочас Козик — взяла на себя инициативу организовать своих одностаничников и ходатайствовать перед начальством об отстранении от станичных дел полковника Могукорова.
Как и следовало ожидать, такому образу действий Могукоров (как только ему это стало известным) сразу же придал политический характер и демагогически обвинил организаторов движения в сочувствии мюридизму. Он стремился убедить войсковое начальство, что дальнейшее развитие событий в станице неизбежно приведет к превращению ее в укрепленный форпост мюридистского движения на русской территории.
12 июня делегаты общества Гривенской станицы в составе 2 урядников и 41 рядового казака прибыли в Тамань и подали просьбу об удалении Могукорова из станицы. Все 43 члена депутации имели ордена и медали за боевые заслуги.
Произведенное по распоряжению войскового атамана расследование не только полностью подтвердило жалобы жителей станицы Гривенской, но и внесло целый ряд новых деталей.
Казаки просили разрешить обществу станицы Гривенской «избрать из своей среды атамана и судей в станичные правители, а господину Могукорову воспретить самоуправство». Однако Могукоров был слишком крупной фигурой, чтобы его можно было так легко отстранить, и с ним приходилось считаться, тем более что он пользовался поддержкой со стороны почти всех дворян-адыгов станицы.
Понимая, что при сложившихся обстоятельствах нельзя действовать прежними методами одного административного террора, дворяне-офицеры сочли возможным стать на путь привлечения на свою сторону казачьей станичной верхушки, внушая ей мысль, что дальнейшее своеволие «черни» может стать опасным и для нее самой. Кроме того, они запугивали зажиточное население станицы Гривенской угрозами репрессий, которые неизбежно навлечет их участие в бунте. Это не могло не оказать действие, и группе Могукорова удалось отколоть от участия в движении некоторых богатых казаков-адыгов.
В ответ на это казаки станицы Гривенской в сентябре 1844 г. подали генералу Рашпилю докладную записку, в которой просили установить у них управление «по русскому закону». Эта просьба ярко отражала протест станичной массы против попыток реставрации адыгских феодальных форм зависимости, которые насаждал Могукоров вместе с дворянским окружением.
Как и следовало ожидать, высшее военное начальство не могло допустить падение престижа офицерского мундира, даже делая скидку на особенности Гривенской станицы. Командующий войсками Кавказской линии генерал-лейтенант Заводовский, ознакомясь с материалами следствия, признал жалобу казаков станицы Гривенской ложной и распорядился об административном взыскании полковнику Табанцу «за вмешательство в постороннее дело и нарушение законного порядка». Что же касается полковника Могукорова, «известного преданностию своею правительству, усердием по службе и заслугам», то его Заводовский распорядился объявить «оговоренным невинно».
Давая такое распоряжение, он бесцеремонно игнорировал заключение следственной комиссии.
Объявив Могукорова оклеветанным, войсковой атаман не решился, однако, сделать из такого решения выводов административного порядка по отношению к организаторам движения.
Офицерско-дворянская верхушка Гривенской, выйдя благополучно из довольно затруднительного положения, в каком она оказалась, немедленно постаралась выселить из станицы наиболее опасных зачинщиков сопротивления. С этой целью она обвинила их в буйстве и воровстве. Введенные войсковой администрацией в состав станичного правления новый атаман хорунжий Гацук Тотаюк и судья урядник Бейзрук Баронов принадлежали к дворянско-офицерской группировке и послушно проводили ее желания. Сообщение о их назначении 17 декабря 1844 г., вызвало бурный взрыв негодования «партии низшего класса» и сопроводилось столкновениями со станичной верхушкой, во время которых были тяжело избиты несколько человек из чиста сторонников офицерско-дворянской части населения станицы, разрушены их дома и хозяйственные постройки, сломана ограда у двора княгини Ахеджаковой и т. д. Вслед за этим большая группа казаков заявила находившемуся в станице представителю войсковых властей, что они не согласны с назначением хорунжего Гацука Тотаюка и урядника Бейзрука Баронова и повиноваться им не будут.
Примириться с таким положением русские военные власти не могли и немедленно стали на путь репрессий: «главнейшие из противящейся партии» казаки Бату Ротук, Гапач и. Товкмаш Жаде, Смаил Козик и Гучапс Борен были арестованы и под конвоем отправлены в Екатеринодар, но по дороге их догнали 70 человек вооруженных адыгов из числа сторонников и объединились с ними в станице Старонижестеблиевской. Русские конвойные казаки, сочувствуя повстанцам, не оказали сопротивления, и арестованные вместе со своими освободителями беспрепятственно возвратились в Гривенскую.
Дело принимало серьезный оборот. Генерал Рашпиль, понимая сложность создавшейся обстановки, не решился пустить в ход оружие.
Он вступил в переговоры с гривенским дворянством. Располагая громадным компрометирующим материалом, он заявил Могукорову и его сподвижникам, что кровавые последствия дальнейших событий лягут на них, и дал им понять, что на суде над повстанцами неизбежно вскроются все их преступления, которые не могут быть оставлены безнаказанными.
Здраво оценив обстановку, дворяне решили пойти на уступки. Они вынуждены были подать прошение об отмене назначенного наказания казаков станицы Гривенскои, им пришлось примириться даже с официальным разъяснением, что «полковник Могукоров не был начальником станичного правления и ныне начальствовать оным не должен».
Вместе с тем, оттеняя и подчеркивая господствующую роль дворянства крепостной России, где бы оно ни находилось, командование предписывало «бунтовщикам» испросить прощение у полковника Могукорова «за несправедливые жалобы, на него возведенные», и удовлетворить материально всех остальных, пострадавших от их «буйства».
В данном случае перед нами яркий пример проявления классовой солидарности русского самодержавия, избегавшего ущемления сословно-правовых полномочий своей социальной основы — дворянства.
Часть зажиточных казаков Гривенскои, не желавшая дальнейших осложнений и боясь их, примирилась с этим и стала уговаривать остальных также согласиться выполнить предъявленные требования. Но наиболее непримиримые из бывших адыгских крепостных решительно отказались идти на поклон к Могукорову. Гусейн Керзечь выступил с горячей отповедью. Он заявил, что противники Могукорова не прекратят борьбы до тех пор, «пока не добьются удаления Могукорова из станицы или же не изведут все их колено». В качестве доказательства непреклонности принятого решения Керзечь от имени всех остальных сторонников продолжения борьбы сказал, что решение их останется неизменно, даже «если бы сам государь» предложил им отказаться от него.
Став на такой путь, руководители движения начали готовиться к вооруженной борьбе. Они взяли строевых лошадей из станичного табуна, приказали своим сторонникам привести в порядок оружие и выставили на подступах к станице караулы.
Озлобленные и испуганные упорством подавляющей части населения станицы, дворяне во главе с Могукоровым забили тревогу. Они просили войсковую канцелярию «принять меры противу богохульных поступков бунтовщиков, неуважения ими законных властей и злонамеренных их замыслов».
Генерал Заводовский потребовал немедленно покончить с «гривенским вопросом» самыми суровыми мерами.
Привести в исполнение распоряжение Заводовского можно было лишь при условии применения военной силы. Однако разгром станицы Гривенской с ее адыгским казачьим населением вызвал бы крайне нежелательные последствия для русского правительства. В условиях развертывавшейся борьбы за Кавказ между Турцией и Россией это событие неизбежно должно было дать в руки соперничавших с Россией держав великолепный агитационный материал, который их агентура не преминула бы использовать в своей деятельности среди адыгов.
Сложившаяся обстановка требовала от царизма и его военной администрации на Кавказе разрешения гривенских событий без дальнейших осложнений.
Наместник Кавказа князь Воронцов счел возможным отступить от традиционной тактики поддержки адыгского дворянства и пошел на уступки. По его распоряжению в конце ноября 1846 г. в Екатеринодар были вызваны представители «враждующих партий», и Заводовский выслушав претензии «бунтарей», дал согласие на отстранение от занимаемых должностей всех ставленников Могукорова с предоставлением права обществу станицы Гривенскои избрать на их место других «по своему усмотрению».
Официальная декларация, опубликованная им по этому поводу, плохо прикрывала всю неловкость для кавказского командования финала гривенских событий. В ней говорилось: «Принимая во внимание просьбу жителей станицы Гривенскои и полагаясь на искренность раскаяния их, я прошу объявить жителям, что они в поступках их прощаются, но внушить им, чтобы они жили мирно, повиновались начальству и что справедливые жалобы их никогда не будут оставлены без рассмотрения и удовлетворения».
9 февраля 1847 г. при полном сборе станичного общества командированный в Гривенскую полковник Борзик прочел предписание князя Воронцова, в котором тот отстранял от управления станицей сторонников Могукорова и разрешал произвести перевыборы станичного правления. После этого торжественно были произведены «беспристрастные выборы новых станичных правителей».
Однако главное значение гривенских событий заключается в том, что бывшие адыгские крепостные решительно выступили против попыток феодального наступления на них со стороны дворянства в рамках войсковой организации Черноморского казачьего войска.
Судьба большей части адыгских рабов и крепостных, перешедших в Россию, где к концу первой половины XIX в. уже вызревали предпосылки для превращения страны в буржуазную монархию, была, несомненно, лучшей, чем судьба тысяч их собратьев, вывезенных своими владельцами в 1863—1864 гг. в Турцию.
В России, несмотря на произвол царской администрации, даже те унауты и пшитли, которые не были зачислены в казачье сословие, все же получали личное освобождение и избавлялись от крепостной зависимости.
Как известно, царизм, вынужденный стать под давлением революционной ситуации на путь освобождения крестьян в России, не мог сохранить крепостные отношения и на Кавказе.
Очерк шестой. Мюридизм на Западном Кавказе
Распространение мюридизма на Западном Кавказе
Не ставя перед собой задачи осветить общую историю мюридизма как формы религиозной идеологии, которая прошла длительный путь развития и своими истоками была связана с традициями ислама еще в пору арабского халифата, мы попытаемся рассказать о роли мюридизма лишь в тот исторический момент, когда он проник на Западный Кавказ в качестве воинствующей проповеди газавата. В это время мюридизм выступал не только как религиозное учение, но и как форма военно-политической организации, создаваемой наибами Шамиля для общей мобилизации сил горских народов против России.
Мюридизм на Западном Кавказе не получил, как известно, того широкого развития, какое он имел у народов Восточного Кавказа. Его распространение натолкнулось на сопротивление широких слоев населения у ряда адыгских народов, принимавшее порой характер вооруженной борьбы против посланников Шамиля. Тем не менее он и здесь оставил значительный след и оказал большое влияние на исторические судьбы адыгов.
Первые официальные сведения о проникновении на Западный Кавказ проповедников воинствующего мюридизма относятся к Т840 г. В половине октября командующий Кавказской линией получил сообщение, что Движение, поднятое Шамилем в Чечне, находит свой отзвук и у абадзехов и что абадзехи под влиянием проповеди присланных к ним мулл готовятся якобы к нападению на линию. Хотя никаких серьезных подтверждений этого не было, командование сочло нужным провести военную экспедицию на реки Ходзь и Псефир, которая послужила началом ряда аналогичных мероприятий царского правительства.
В мае 1842 г. командованием войск Кавказской линии было получено известие о прибытии к убыхам и шапсугам четырех агентов Шамиля, присланных с воззваниями, в которых закубанцы призывались начать летом этого же года военные действия. Шамиль обещал поддержать Их своими войсками, овладеть русскими укреплениями на Кубани и Лабе и разгромить Ставрополь.
Одним из первых результатов деятельности засылаемых на Западный Кавказ проповедников мюридизма было создание здесь отрядов хаджиретов или мутазигов, которые должны стать ядром постоянной армии для борьбы их с Россией. В эти отряды прежде всего поступали обедневшие юноши-сироты. Как это отмечалось выше, им грозила постоянная опасность потерять свободу и быть проданными в рабство. Кроме того, видное место в отрядах хаджиретов занимали изгнанники из аулов, исключенные из общин за совершенные ими преступления. М. М. Ковалевский отождествлял этих людей со славяно-русскими изгоями и древнегерманскими wargus, не имеющими семьи, отлученными от общения с близкими и обреченными на вечное скитание.
Довольно значительную часть в рядах хаджиретов составили также молодые дворяне низших степеней, которые, по меткому выражению современника, «свинцом засевают, подковой косят, шашкой жнут». Среди них встречались иногда и люди обеспеченные, для которых служба в этих отрядах была источником дальнейшего обогащения.
Главным в возникновении и существовании института хаджиретства в том виде, какой он получил в описываемое время, несомненно, явилось действие социальных причин: наступление княжеской знати на общинные права, ослабление родовых связей, рост социального и имущественного неравенства, полное обнищание отдельных семей тфокотлей, грозившее их членам потерей свободы и обращением в зависимое состояние, — все это приводило к образованию большого количества «лишних людей».
И. Попко, выпустивший в 1858 г. в свет свою работу «Черноморские казаки», на основании личных наблюдений, говоря о хаджиретах, писал в присущем ему стиле, что это название по преимуществу относилось к «буйным бездомовникам, которые выросли в круглом сиротстве и неимуществе или которые, накликав на себя гонение в своих обществах, бежали с родины на чужбину и там, по неимению недвижимой собственности и собственного тягла, промышляют себе хлеб насущный кинжалом "и винтовкой». Начальник Черноморской береговой линии вице-адмирал Серебряков, прекрасно знавший обстановку в горах, характеризуя мутазигов, также подчеркивал, что это люди, «не имеющие ни домов, ни имущества».
Первым официальным посланником Шамиля на Западном Кавказе был Хаджи-Мухаммед, который появился у абадзехов в мае 1842 г. в сопровождении группы эфендиев из Дагестана и Чечни. Вслед за Хаджи-Мухаммедом на Западный Кавказ прибыл Сулейман-эфенди. Третьим наибом Шамиля был энергичный проповедник воинствующего мюридизма Магомед-Амин (Мухаммед-Эмин, Мухаммед-Амин Наиб-паша, Эмин-бей, как его именовали в турецкой и европейской прессе того времени).
Не останавливаясь на деятельности первых двух наибов Шамиля, поскольку у одного из них она была весьма кратковременна, а другой, потерпев неудачу, уже в 1846 г. перешел на сторону царизма, попытаемся рассказать о событиях, связанных с деятельностью Магомед-Амина. Следует заметить, что она привлекала к себе внимание не только русской военной администрации, но и ряда историков, причем представители либерально-народнического направления обычно резко противопоставляли Магомед-Амина Сефер-бею, считая его выразителем интересов народных масс.
Как известно, и в советской исторической литературе Магомед-Амин часто рассматривался как выдающийся руководитель борьбы адыгов за независимость.
Русское командование в своей оценке его деятельности всегда подчеркивало его ум и энергию, но в то же время отмечало, что он отнюдь не склонен был отказываться: от земных благ во имя достижения «небесного блаженства». В январе 1860 г. генерал Филипсон, в штабе которого находился сдавшийся в плен Магомед-Амин, писал князю Барятинскому, что, выполняя его поручения, Магомед-Амин «действовал энергически и ни днем ни ночью не имел покоя» и что, «как умный человек, он, конечно, понимает, что только преданностью нашему правительству он может надеяться не только удержать свое богатство, но и еще прочнее устроить свое благосостояние... я думаю, что он может быть весьма полезен для окончательного устройства края».
Один из «довереннейших и надежнейших наибов Шамиля», он в молодости прошел школу мусульманского образования и затем несколько лет подряд бродил в качестве совершенствующегося тельмиха (ученика) по Кавказу и Малой Азии. Своим рвением и преданностью он завоевал полное доверие Шамиля, который в знак особого расположения письма к нему адресовал: «Нашему Магомету Верному».
Магомед-Амин прибыл на Западный Кавказ в конце 1848 г. в сопровождении небольшой группы близких к нему лиц. Он был поражен далеко зашедшим сближением значительной части коренного населения с русскими. Впоследствии он откровенно признавался, что до приезда его в закубанский край жители многих аулов настолько сблизились с русскими, что «рядом пахали землю и косили сено... что немного нужно было времени для того, чтобы оба народа слились в один», и что он успел совершенно отделить от русских горцев и полагает, что «сделал тем большую услугу исламизму и Порте».
Делая даже серьезную скидку за счет возможного нарочитого преувеличения им своих заслуг перед султаном, нельзя не признать, что-сам факт такого заявления в устах главного вдохновителя мюридистского движения на Западном Кавказе является лучшим свидетельством наличия экономических и культурных связей адыгов с русским населением. Эти связи, возрастая и ширясь, с каждым годом все больше просачивались через рогатки и препоны официального правительственного курса царизма на Кавказе.
Территория Западного Кавказа, на которой Maгомед-Амин развернул деятельность, была ограничена течением р. Лабы, средним и нижним течением Кубани и берегом Черного моря, от устья Кубани до границ Абхазии.
В конце января 1849 г. он выступил на большом народном собрании с призывом «обновить» мусульманство адыгов путем строгого выполнения шариата и поголовного их участия в священной войне. Магомед-Амин объявил, что цель его состоит в том, «чтобы соединить весь народ закубанский в один союз, чтобы народ этот не имел никаких мирных сношений с русскими, как противниками их религии, что цель его это была воля турецкого султана». Стремясь придать своей миссии особое значение, он не остановился перед тем, чтобы дискредитировать предшественников — Хаджи-Мухаммеда и Сулей-ман-эфенди, демагогически заявив, что они были обманщиками, действовавшими исключительно «по собственным видам и потому и не имевшими больших успехов». Вслед за тем он объявил воззвание Шамиля, в котором широковещательно говорилось, что султан вызывает всех закубанцев, как единоверцев, «на брань противу русских и быть в готовности с тем, чтобы по первому повелению двинуться туда, где сказано будет».
Комментируя это воззвание, Магомед-Амин утверждал, что султан обещает всем верным ему неисчерпаемые милости и военную помощь, и категорически потребовал возобновления отрядов мутазигов на основании беспрекословного исполнения воли султана. Создание этих отрядов, согласно оглашенному им тексту воззвания, диктовалось тем, что «турецкий султан в непродолжительном времени объявит России войну и что турецкий военный флот готовится к походу в Черное море для уничтожения русских береговых укреплений». Для широких же военных действий, которые начнутся вслед за этим на Кавказе, султан и Шамиль считают необходимым завести у адыгов также и «постоянное войско, артиллерию, учредить казну, производить всем служащим жалованье и давать пенсии раненым и семействам убитых».
Цитируемые документы дают основание полагать, что еще за четыре года до начала Крымской войны Магомед-Амином проводилась на Западном Кавказе соответствующая военно-политическая подготовка.
С первых же шагов своей деятельности он нашел поддержку со стороны местного мусульманского духовенства и большинства абадзехских старшин. Влиятельнейшие из них, «между которыми особенно выделялся Хаджи Касай Джандаров», сделались самыми преданными слугами Магомед-Амина. Эфенди и муллы начали весьма деятельно проповедовать газават, или священную войну с русскими. Благодаря их активной поддержке Магомед-Амину удалось добиться того, что абадзехи отказались от принятого ранее решения изгнать хаджиретов, разжигавших вражду к русским.
К февралю 1849 г. он почувствовал себя настолько прочно, что потребовал от абадзехов обязательного выставления мутазигов, ввел в действие мусульманское законодательство и постоянную систему налогов.
В своей деятельности он умело использовал территориальную разбросанность абадзехских общин для того, чтобы подчинить их себе поочередно.
Неповинующиеся подвергались суровым наказаниям: дома их сжигались, имущество конфисковалось, а сами они заключались в тюрьму, представлявшую собой глубокую земляную яму; как сообщалось в документе, «туда ввергают по повелению Магомета-Амина своевольных горцев, не подчиняющихся требованиям его, и после некоторого времени заключения он или прощает виновных, по принятии присяги на безусловное повиновение, или осуждает их на смертную казнь, которая обыкновенно состоит в утоплении».
С весны 1849 г. Магомед-Амин начал покорение других народов. Махошевцы, егерухаевцы и темиргоевцы вынуждены были принести ему присягу и обязались платить налагаемые им подати. Некоторые, в частности темиргоевцы, принеся присягу Магомед-Амину, тотчас же предусмотрительно отправили своих депутатов к русским военным властям с заявлением, что эту присягу они приняли из страха перед аминовскими мутазигами и что она нисколько не отразится на их отношениях с русскими. Более решительную позицию заняли бжедухи, которых Магомед-Амин решил ради изоляции от русского влияния переселить в глубь адыгской территории. Обеспеченные русским покровительством, они единогласно отвергли предложения наиба и отвечали, что станут защищать свои земли с оружием в руках.
Боясь, что их пример подействует и на темиргоевцев, Магомед-Амин решил и их переселить в горы.
Генерал Ковалевский, пытаясь задержать движение Магомед-Амина к темиргоевским аулам, хотел переправить русский отряд за Лабу, но это осуществить ему не удалось вследствие сильного подъема воды в реке, и он вынужден был ограничиться лишь артиллерийским обстрелом войск наиба, не принесшим серьезного вреда. Воспользовавшись этим, Магомед-Амин демонстративно принял на глазах у русского командования новую присягу у колебавшихся темиргоевцев и, забрав их вместе с собой, Двинулся вверх по Лабе.
Выведя переселенцев с их прежнего места жительства, он назначил им места для основания новых аулов и поставил над ними в качестве своего полномочного заместителя темиргоевского эфенди Устокова, который до этого времени жил у абадзехов. Переселенцы обязаны были содержать постоянные караулы в количестве 60 всадников. Осенью и зимой 1849 г. Магомед-Амин закрепил достигнутые успехи. В апреле же 1850 г. он обрушился на черченеевцев и хамышеевцев. Умело использовав разлив Кубани, стильно затруднявший действия русских войск, он начал военные операции.
Силы Магомед-Амина ко времени описываемых событий состояли не только из отрядов мутазигов и абадзехского ополчения, созданного усилиями преданных ему старшин, но и значительно пополнились за счет добровольно присоединившихся к нему бжедухских тфокотлей, которых он привлек демагогическим обещанием избавить навсегда от власти и произвола их князей и дворян, если они примут участие в газавате. Появление русских войск в глубине адыгской территории сильно встревожило абадзехов, находившихся в его лагере, и они, невзирая на его угрозы, «поспешили на защиту своих собственных аулов». Таким образом, обстановка складывалась весьма благоприятно для нанесения решительного удара по его силам. Однако этого не произошло вследствие совершенно неожиданного для русского командования обстоятельства. Бжедухская знать решила использовать пребывание русских войск за Кубанью для того, чтобы потребовать от Магомед-Амина выполнения данных им перед этим секретных обещаний сохранить все ее владельческие права. 25 апреля бжедухские князья и дворяне собрались на общий съезд в ауле Гобокай для переговоров с уполномоченным Магомед-Амина и, заручившись от него новым подтверждением, что наиб Шамиля вовсе не думает посягать на их феодальные права, отказали русскому командованию в помощи и отвели свои войска.
В силу этого генерал Рашпиль не счел возможным развертывать военные действия и через затопленную водой долину р. Кубани 27 апреля возвратился на ее правый берег. Отход русских войск происходил в крайне тяжелой обстановке: глубина воды, затопившей дороги, местами достигала двух аршин и всякое дальнейшее промедление их за Кубанью после соглашения, заключенного бже-духскими князьями с Магомед-Амином, грозило гибелью.
Состояние письменных источников не позволяет, к сожалению, проследить все подробности описанного эпизода и закулисную сторону переговоров, происходивших между бжедухской знатью и Магомед-Амином. Не подлежит сомнению, однако, что достигнутое между ними соглашение было заключено за счет нарушения интересов народных масс.
Приведя к присяге при помощи князей и дворян хамышеевцев и черченеевцев и получив от них мутазигов с условием содержания последних за счет присягнувших, Магомед-Амин «обратил все внимание на шапсугов», стремясь подчинить их, и с этой целью в последних числах мая двинулся к шапсугской территории. Узнав о его приближении, шапсуги, жившие на реках Шебж и Афипс, встретили его с оружием в руках на границе своих владений и решительно воспротивились его вступлению в Шапсугию. Напрасно мюриды Магомед-Амина призывали шапсугов стать под знамена газавата — они остались глухи к их призывам, а в личных переговорах с самим наибом шапсуги в духе восточного гостеприимства любезно предложили ему въехать в их владения одному «в качестве гостя и проповедника магометанской религии», но решительно заявили, что «ни под каким видом не допустят его сделаться повелителем шапсугского народа, подобно тому как он утвердился у абадзехов». Это означало, что горцы уже достаточно четко различали две стороны мюридизма: как форму религиозной идеологии и как военно-политическую организацию, втягивавшую их в борьбу против России.
Такой оборот дел при сравнительно небольших силах весьма мало устраивал Магомед-Амина, и он поспешил выйти из неприятного положения. В ответ на сделанное предложение он заявил, что «ночью получил повеления от Шамиля, вследствие которых должен возвратиться на р. Шовгаше».
Возвратившись сюда, он немедленно объявил дополнительный сбор всадников у абадзехов, хамышеевцев и черченеевцев для организации нового похода.
Трудно сказать, как развивались бы дальнейшие события, если бы Магомед-Амин не нашел поддержки у протурецки настроенной старшинской верхушки шапсугов. По полученным русским командованием сведениям, старшины ряда аулов собрались отдельно от тфокотлей на р. Убин и приняли решение поддержать Магомед-Амина.
В той сложной картине социальных и политических коллизий, какие переживали адыгские народы в первой половине XIX в., этот эпизод представляет особый интерес. В очерке «Политика царизма по отношению к адыгской феодальной знати» мы специально останавливались на истории борьбы шапсугских тфокотлей со своим дворянством, закончившейся поражением последнего и возвышением богатой «почетной» старшинской верхушки шапсугского аула. Поднявшаяся аульная верхушка сосредоточила у себя большое количество конфискованных У дворян крепостных и рабов и была серьезно озабочена закреплением и расширением своих экономических и политических позиций. В ее глазах Магомед-Амин (как это стало широко известно), отнюдь не презиравший земных благ и служение делу мюридизма соединявший со скопидомным их накоплением, казался фигурой, заслуживающей внимания. «У наиба есть один порок,— писал в январе 1860 г. генерал Филипсон князю Барятинскому,— это жадность к корысти. Он составил себе из штрафов значительное состояние, заключающееся преимущественно в крестьянах, которых, говорят, у него до 1000 душ». Будучи необычайно жадным «к приобретению», Магомед-Амин очень быстро накопил солидный капитал «сборами на общественные потребности, штрафами и грабежом». Адыгские старшины с большим опасением и неприязнью смотрели на чрезмерно растущую политическую активность рядовой массы тфокотлей. Эта активность уже не укладывалась в рамки старинных родовых общественных институтов, которые старшинская знать стремилась использовать для утверждения своего господства. Военно-теократическая диктатура Магомед-Амина в представлении старшин должна была явиться залогом сохранения и роста их политического влияния, поддержкой их привилегий и незыблемости владения крепостными и рабами. Отсюда-то и проистекало стремление старшин включиться в управленческий аппарат мюридизма на Западном Кавказе.
В области внешней политики эта новая прослойка адыгских феодалов возлагала на Магомед-Амина задачу обеспечения бесперебойных экономических связей с Турцией, рынки которой были всегда открыты для ее торговли людьми, и административно-политические функции по урегулированию всех вопросов ее будущих взаимоотношений с Портой, какие должны были сложиться после перехода Кавказа под власть Оттоманской империи.
Опыт предшествующих сношений шапсугской старшинской знати с русской администрацией убеждал ее в том, что ей не удастся удержать в своих руках рабов и крепостных в случае перехода Кавказа под власть России, стоявшей на пороге буржуазных реформ. Для нее совершенно невыносимым обстоятельством был, в частности, постоянный прием беглых рабов русскими властями и их освобождение. Факт огромной заинтересованности верхушки шапсугов во владении рабами, как уже не раз отмечалось, нашел отражение в длинном ряде официальных документов.
В бурном потоке военных и политических событий, протекавших на Западном Кавказе, социальные верхи адыгского аула в лице старшин и богатых тфокотлей видели в Магомед-Амине якорь стабилизации достигнутого ими положения. Аульная верхушка и явилась главной социальной базой мюридизма на Западном Кавказе. Она в лице мухтаров (начальников участков, введенных Магомед-Амином) составила и костяк его военно-полицейской администрации.
Старшинская знать «демократических племен» не имела в своем распоряжении даже того примитивного полуразбойничьего аппарата принуждения, каким располагали князья и высших степеней дворяне в лице вооруженной дворни и мелкого дворянства, им подчиненного. Вот почему энергичный наиб Шамиля с его военно-теократической системой государственности был для нее вполне политически приемлем.
Поддержка Магомед-Амина старшинами не могла укрыться от внимания местной русской администрации, и она в дальнейшем в мероприятиях, направленных против распространения его влияния, всегда стремилась воздействовать прежде всего на эту новую подымающуюся прослойку феодалов.
Магомед-Амин, в свою очередь, очень скоро после приезда на Западный Кавказ прекрасно понял, что ставка на старое дворянство «демократических племен» лишена практического смысла, потому что оно не имело серьезного значения. В данном случае он руководствовался отнюдь не приписываемым ему непреодолимо-враждебным отношением сурового демократа к дворянам как социальной категории адыгского общества, а трезвым политическим расчетом. Лучшим доказательством является то, что в начале своей деятельности он обнаруживал отчетливое стремление сблизиться с военно-феодальной знатью, и продолжал проводить эту линию среди «аристократических племен» даже' тогда, когда уже отказался от нее У «племен демократических». В целях сближения со знатью он, как известно, даже вступил в брак с сестрой темиргоев-ского князя Карабека Болотокова. Фамилия Болотоковых считалась наиболее влиятельной между всеми аристократическими семьями за Кубанью. Склонив на свою сторону Болотоковых, Магомед-Амин рассчитывал достичь сразу нескольких результатов: во-первых, он этим подчинял влиянию темиргоевцев, егерухаевцев и мамхирцев, подвластных Карабеку Болотокову и князьям его фамилии; во-вторых, он становился родственником самых сильных и влиятельных аристократических семейств, которые, приняв его в свою среду, должны были перестать относиться к нему как к безродному пришельцу (что в понятиях адыгов играло огромную роль), и, в-третьих; породнившись с богатой княжеской фамилией, он рассчитывал на ее материальные средства.
Князья и дворяне вначале довольно охотно поддерживали наибов Шамиля на Западном Кавказе, надеясь на укрепление своего пошатнувшегося положения. Оценив эту позицию дворянско-княжеской аристократии, русские, власти заметили, что многие князья и дворяне сближаются с вождями мюридистского движения «в надежде восстановить через них прежние свои права».
Вполне понятно, что женитьба Магомед-Амина на сестре Болотокова, став известной, сразу же произвела крайне неблагоприятное впечатление на массу тфокотлей «аристократических племен», которые стали видеть в нем представителя княжеской фамилии и обнаруживали к нему в силу этого весьма настороженное отношение, отказывая в военной поддержке.
Этим и объясняется тот новый зигзаг социальной политики Магомед-Амина по отношению к тфокотлям «аристократических племен», который выразился в том, что он неожиданно резко порвал с адыгскими князьями, подвергнув последних суровым репрессиям, но постарался сохранить на своей стороне симпатии мелких дворян, как необходимой ему военной силы для действий против шапсугов.
Пытаясь воссоздать картину происходивших событий по отдельным отрывочным и разбросанным материалам, можно сказать лишь следующее: мелкое дворянство в описываемый момент обострения социальных противоречий с тфокотлями увидело в Магомед-Амине спасение и охотно пошло за ним, жертвуя интересами, а иногда и жизнью своих сюзеренов. Объективным основанием для этого были какие-то не совсем ясные и, вероятно, в достаточной степени преувеличенные «несправедливости» со стороны князей по отношению, к дворянам. Говоря о репрессиях Магомед-Амина против князей, официальные документы отмечают, что князья по отношению к дворянам «сами своими несправедливостями к последним сделали их опасными для себя».
В то время как дворяне шли на компромисс и готовы были заключить соглашение с Магомед-Амином, князья решительно не желали отказаться от политической самостоятельности. Наиб же Шамиля, дороживший поддержкой тфокотлей и временно получивший ее у дворян, в категорической форме писал князьям: «Вам должно почитать, во-первых, бога, во-вторых, пророка его Магомета, а в-третьих, слушаться и повиноваться мне — начальнику вашему».
В результате создавшегося положения князьям оставалось отбросить всякие иллюзии относительно возможности укрепить свою власть под знаменами мюридизма и снова кинуться в объятия царского правительства России. Одним из первых выразил эти настроения князь Пшемаф Кончуков, который в ответ на требование наиба прислать ему войска писал, что он «не признает себя подвластным Амину, а потому и мартизаков к нему не намерен послать», и тотчас же принес присягу российскому императору.
Характерно, что русская администрация, получавшая довольно точную информацию из самого штаба мюридистского движения, не раз предупреждала-адыгских князей, что «они очень ошибаются потому, что возмутители не имеют никаких намерений предоставлять кому-либо независимость от себя и тем более наследственную власть».
Возвратимся теперь к описанию дальнейшего хода событий.
Приняв решение поддержать Магомед-Амина, шапсуг-ские старшины тотчас же послали к нему гонцов с предложением двинуться «в Шапсугию». Однако собрание на Убине и принятое на нем решение им не удалось сохранить в тайне от народных масс, которым стало известно, что старшины намереваются просить Амина, «чтобы тот вооруженной рукой покорил Шапсугию своему могуществу».
Это вызвало взрыв бурного негодования широкой массы тфокотлей, и шапсугское крестьянство вопреки воле старшин взялось за оружие.
Для русского правительства не являлось секретом наличие острых социальных противоречий среди адыгов, и Николай I, ознакомившись с донесениями о действиях Магомед-Амина, заявил, что здесь «поразличию интересов различных классов (подчеркнуто мною.— М. П.) народонаселения едва ли можно ожидать в скором времени какого-либо общего единодушного против нас восстания». Тем не менее, опасаясь, что при дальнейшем развертывании деятельности Магомед-Амина обстановка может сильно осложниться, он предписал военному министру обратить на нее внимание и немедленно доносить ему о всех мало-мальски важных событиях.
29 июня 1850 г. близ урочища Догой отряды хаджире-тов Магомед-Амина вступили в сражение с шапсугским народным ополчением и были разбиты. Озлобленный неудачей, Магомед-Амин отступил в земли абадзехов и остановился на р. Супс. Находясь здесь, он потребовал у абадзехов и бжедухов «собрать всех, кто только в состоянии носить оружие», и, получив значительные подкрепления, 6 июля вновь двинулся на шапсугов, причем на этот раз ему удалось одержать победу.
Причина поражения народного ополчения шапсугов крылась, однако, не в численности и не в военно-техническом превосходстве сил Магомед-Амина, а в предательской тактике шапсугских старшин, жаждущих получить бразды правления, если бы удалось Амину поработить шапсугов.
Дело в том, что шапсуги, узнав о подготовке Магомед-Амином вторичного вторжения в их земли, со своей стороны также приняли оборонительные меры, причем главную роль организации обороны взяли на себя общины, расположенные по р. Шебж. Вооруженные тфокотли стекались на сборные пункты и, как казалось, готовились действовать единодушно, но на самом деле вышло иначе: к шапсугам-шебжцам присоединились только одни жители р. Афипс, но и те еще до начала сражения покинули шебжцев по требованию старшин.
В результате только одни шебжцы остались непреклонны, и в сражении, происшедшем 1 июля на р. Афипс, они «геройски встретили сборище Эмина». Силы были неравны, и, понеся в кровопролитном сражении крупные потери, шебжцы вынуждены были «спасаться бегством по лесам». После этого Магомед-Амин перешел через р. Афипс в землю шапсугов и, пользуясь поддержкой старшин, принял присягу от жителей аулов, расположенных на реках Шебж и Афипс.
Часть шапсугов, жившая в труднодоступной горной полосе западной части Кавказского хребта, носившей название Хапужичес (Старая Родина), и после победы Магомед-Амина продолжала сопротивление. Старшинская верхушка глухих горных шапсугских аулов не смогла проявить той политической активности, которую обнаружили старшины предгорной полосы, и вынуждена была действовать в контакте с народной массой. Попутно напомним, что у горных шапсугов религиозная идеология мусульманства почти не привилась, и к описываемому времени у них довольно сильны были еще пережитки христианства, смешанного с язычеством.
Для укрепления своего положения в Шапсугии Магомед-Амину необходимо было сломить это сопротивление. Узнав о его намерении, горные шапсуги решили защищать независимость. Они устроили завалы на горных тропах, которые вели к их аулам, и приготовились к обороне, поклявшись убить самого Магомед-Амина. Узнав об этом и опасаясь, что угроза может быть приведена в исполнение, Магомед-Амин, двинувшись в поход, переоделся в простую черкеску, а свою одежду предусмотрительно надел на одного из абадзехских эфенди, находившегося в его свите. Подобная мера себя оправдала. Едва только отряд стал подниматься в горы, как из-за деревьев раздались выстрелы и «один из эфендиев, одетый в костюм Магомеда Амина, был ранен двумя пулями».
Сломив сопротивление выставленных против него передовых отрядов, Магомед-Амин двинулся в глубь шапсугской территории.
Дальнейшие события в официальных русских донесениях рисуются в следующем виде: «...шапсуги, видя, что против многочисленной толпы аминовских мартазаков им устоять нельзя, бросили свою позицию. Амин велел очистить дорогу, двинулся по ней вперед и достиг беспрепятственно первого по пути аула. Сюда прибыли старейшины с некоторых аулов, и Магомед Амин потребовал от них присяги и принятия магометанской веры. На это старейшины ответили ему, что они хотя и дадут присягу, но это будет сделано не от чистого сердца, а только по принуждению, что же касается до перемены религии, то они решительно отказываются от исполнения его в этом случае требований. После сего Амин приказал все кресты, находившиеся на могилах покойников, сломать, снести в одно место и сжечь, а затем силой заставить их дать присягу».
Победа Магомед-Амина над шапсугами вызвала новый приток беженцев из-за Кубани. Многие, не желая подчиниться насильственно устанавливаемой им диктатуре, стали переходить на правую сторону р. Кубани под защиту русских укреплений. Перед командованием кордонной линии возник вопрос о содержании беглецов, который был решен следующим образом: беглецам предписано было выдавать суточное содержание «...принадлежащим княжеским фамилиям по 30 коп. серебром, дворянам и их семействам по 20 коп. и простым черкесам по 10 коп. в сутки» за счет жалованья горских офицеров, изменивших русскому правительству и перешедших на сторону Магомед-Амина.
Для характеристики происходивших летом 1850 г. событий очень важна «Записка о ходе дел за Кубанью по случаю возмутительных действий агента Шамиля — Магомета Амина», представленная 29 июня генералом Рашпилем. Эта записка содержит не только общее описание событий, но и представляет попытку разобраться в их смысле и значении. Кроме того, она изобилует рядом деталей, рисующих позицию адыгского дворянства по отношению к деятельности Магомед-Амина.
Давая общий обзор действий, генерал Рашпиль указывает, что вскоре после вынужденного подчинения наибу хамышеевцев и черченеевцев среди последних поднялось движение во имя отказа от принесенной присяги на верность мюридизму. В результате этого население пяти хамышейских аулов: подпоручика князя Мишеоста Гаджемукова, прапорщика Бжегока Улоока, прапорщика Тлеустена Инармиса, султана Сагат-Гирея и Алкаса Бжегако — перешло со всем своим имуществом и скотом на правую сторону Кубани, где его и разместили на землях Казанской и Прочноокопской станиц. Все же остальные ха-мышейские аулы, во главе которых стояли князья прапорщики Джанклиш Гаджемуков, Инжар Крымчериок и Науруз Шумануков, а также все без исключения черче-неевские князья и дворяне со своими «подвластными» приняли присягу на безусловное повиновение Магомед-Амину. Однако когда к ним в первых числах мая были разосланы обращения русских властей, то они немедленно прислали делегацию в Екатеринодар с заявлением, что они присягнули наибу только потому, что «не могли удержать в повиновении своего народа и были увлечены к присяге безотчетным страхом и желанием избегнуть разорение и пролития крови, но что искренне они никогда не были расположены в пользу Амина и по-прежнему сохраняют свою преданность русским».
Делегаты уверяли, что они готовы были бы поднять открытое восстание против Магомед-Амина, но не в состоянии пока этого сделать, так как он опирается па сильную поддержку абадзехов.
Только два черченеевских князя: подпоручик Аладжук Ахеджаков и прапорщик Яндарь Эльбуздок, а также хамышейский князь Инжар Крымчериок остались верны присяге Магомед-Амину.
Генерал Рашпиль уверил делегатов, что он будет ходатайствовать о прощении виновных, но лишь в том случае, если убедится на деле в искренности их обещаний. Эту искренность изменившие русскому правительству князья впоследствии постарались доказать тем, что на требования Магомед-Амина прибыть в его ставку «отозвались больными».
Оценивая общую обстановку, сложившуюся ко второй половине 1850 г., генерал Рашпиль писал:
«Вообще же по всем сведениям, получаемым из-за Кубани, и по самому ходу дел известно, что абадзехи до крайности тяготятся властию Магомета Амина, но недостает у них только решимости на открытое восстание против него; что в отказе шапсугов Магомету Амину принимали тайное участие некоторые почетнейшие абадзехи и что от твердости шапсугов все ожидают перемены обстоятельств и случая ниспровергнуть власть Магомета Амина. Таково именно теперь направление умов и главное — все: абадзехи, шапсуги, натухайцы связаны одними интересами меновой торговли и опасаются, чтобы по причине возникающих волнений правительство наше не запретило торговых сношений с ними, всю важность которых они так хорошо понимают и знают, что в случае повсеместного прекращения пропуска к ним товаров они придут в самое бедственное положение.
Что касается до бжедухов, то в искренности намерений их при настоящих обстоятельствах оставаться под нашим покровительством нельзя сомневаться, потому что они более всех прочих горцев поняли пользу нашего покровительства и не могут не тяготиться своим отчуждением от нас. Редкий день проходит, чтобы я не слышал жалоб от них на настоящее положение дел и раскаяние за признание власти Магомета Амина, слишком для них тягостной... и простой народ большею частью уже понял свое заблуждение и желает возвратиться под покровительство наше; но открытого восстания они сами собой никаким образом сделать не могут, а потому просят оказать им пособие от ненавистной власти Магомета Амина и что для этого они готовы на все меры, какие угодно было бы правительству предпринять, и согласны на самое переселение в места безопасные от внешних волнений; но всего более убеждают правительство оградить их земли цепью укреплений, чтобы закрыть их от абадзехов (подчеркнуто мною.— М. П.). А что касается до покорности их, то они, безусловно, предаются во власть нашу и готовы быть полезными нам по мере сил своих, лишь бы только на постоянных землях своих они были спокойны и защищены от покушений неприязненных горцев».
Последняя мысль Рашпиля, скупо выраженная всего в двух фразах, освещает еще одну сторону тактики Магомед-Амина, на которую, как нам кажется, не обращалось должного внимания историками. Эта сторона заключается в использовании им межплеменной вражды. В частности, в этом последнем обстоятельстве в значительной степени можно видеть объяснение той относительной прочности положения Магомед-Амина, которое он имел у абадзехов. Абадзехи, жившие в глубинной части горной полосы Западного Кавказа и оторванные от непосредственных сношений с русскими, сохранили в своем быту военные набеги на соседей как одно из существенных средств накопления. Военные походы под знаменами Магомед-Амина на горцев, отказывавших ему в повиновении, открывали для значительной части абадзехов широкие и при этом, так сказать, вполне легальные возможности получения военной добычи, и Магомед-Амин сознательно шел навстречу их притязаниям. Однако и среди них назревало недовольство его режимом. Получив нужную ему добычу во время набега на какой-нибудь непокорный бжедухский или шапсугский аул, рядовой абадзех вовсе не склонен был вслед за тем превращаться в постоянного «военнослужащего» в составе его войск или же нести материальные жертвы на их содержание.
Особенно умело использовал Магомед-Амин старинную вражду между шапсугами и бжедухами, которая тянулась много лет и старательно подогревалась бжедух-ским дворянством.
Осень 1850 г. он провел в походах, ставивших своей задачей закончить подчинение всех остальных адыгейских народов. Почти везде он встречал разрозненное сопротивление, но, опираясь на поддерживавшие его общественные элементы, заставлял приносить себе присягу. Характерно, что горцы, имевшие возможность найти защиту у русских, решительно отказывали Магомед-Амину в принятии присяги. Так, в частности, было не только на левобережье р. Кубани, но и на берегу Черного моря, где, как сообщает Н. Карлгоф, аулы и общины, прикрытые войсками береговой линии и не желавшие прекратить торговые сношения с русскими, «отстояли свою независимость». Отсюда, по-видимому, и проистекала впоследствии одна в высшей степени интересная мера, проведенная Магомед-Амином: он, заставив в конце концов натухайцев принести ему присягу, разрешил им в виде особого исключения вести торговлю с русскими.
Используя раздробленность адыгов и поддержку старшинской аристократии, Магомед-Амин в своих действиях применил следующую тактику: основав базу в главном мегкеме, построенном на р. Шовгаш, он, «окруженный преданными туземными старшинами и телохранителями», переезжал из одного горного ущелья в другое. Разжигая ненависть к «гяурам» и требуя во имя пророка соединение всех правоверных для борьбы «против распространяющегося владычества русских», он уверял «в силе и могуществе Шамиля и готовности его явиться в этот край с несметными силами». После этого для каждой группы аулов, расположенных в отдельном ущелье, он создавал, «временное правление из доверенных лиц» и двигался дальше. Все принесшие присягу обязывались содержать выставляемых мутазигов, внося на каждого из них от ста дворов по 1 рублю серебром, по одному барану, по две мерки пшена, по два круга сыра и прочее.
Довольно скоро значительной части горских народов Западного Кавказа стало ясно, что в ходе назревавшего военного конфликта между Россией и Турцией деятельность Магомед-Амина может привести их к подчинению последней. А это очень мало привлекало основную массу населения. Нападения же аминовских мутазигов на русские укрепления, сами по себе не приносившие серьезного вреда, давали местному командованию основание производить военные экспедиции за Кубань.
Тяжесть положения адыгских народов, живших на левобережье Кубани, увеличивалась еще и принудительными переселениями, которые они должны были совершать по требованию Магомед-Амина. До 1853 г. он два раза переселял в горы темиргоевцев, хатукаевцев и бжедухов, чтобы изолировать их от русских. Однако такое избавление очень мало их устраивало. Связи с русским населением были настолько прочны, что при первом же удобном случае адыги стремились освободиться от военно-теократической диктатуры Магомед-Амина. В октябре 1850 г. генерал Рашпиль писал командующему войсками о прикубанских бжедухах: «Живя целые десятки лет на Кубани в беспрерывных сношениях с нами, они пользовались всеми потребностями от нас, улучшили свою домашнюю жизнь, и трудно им теперь стать в уровень с теми горцами, которые не знакомы ни с какими удобствами жизни. Можно сказать, что все сопредельные Черноморской кордонной линии горцы смущены и не знают, к каким испытаниям поведет их далее Магомет Амин, влияние которого тяготит народ. Доказательством этого служит то, что шапсуги радовались, когда вице-адмирал Серебряков сжег магчиму (нечто вроде укрепления), устроенную Магомет Амином на р. Кудако, и даже предлагали мне истребить подобное устройство на р. Антхире».
Прекращение в июле 1850 г. торговли с горцами действительно сильно отразилось на их положении. Особенно остро чувствовался недостаток соли. Это обстоятельство привело к тому, что прибывшая 19 октября 1850 г. в Екатеринодар делегация бжедухских князей (Пщемаф Кончуков, Яндарь Эльбуздок, Джанклиш Гаджемуков, Аладжук Ахеджаков и Магомчерий Ахеджаков) в сопровождении пятидесяти дворян, подтвердив свои прежние позиции, просили русское командование возобновить торговлю, столь необходимую для их подданных. Они уверяли, что не только сами не будут участвовать в нападениях на русские войска, расположенные по кордонной лилии, но и не допустят этих нападений со стороны «неприязненных горцев» на пространстве от р. Афипс до р. Белой.
Организация управления подчиненных Магомед-Амином адыгских народов
Рассматривая режим, установленный Магомед-Амином, необходимо прежде всего отметить его напряженную заботу о создании постоянных военных сил. Это было основной задачей на протяжении всей его деятельности. Явившись в ходе последующих событий орудием в руках англо-турецкой политики, он должен был ко времени начала Крымской войны подготовить на Северо-Западном Кавказе общее вооруженное выступление горских народов против России. Он подчеркивал, что турецкий султан находит полезным завести на Кавказе «постоянное войско, артиллерию, учредить казну». Те же цели преследовала и торжественная церемония принятия им присяги Турции, проделанная в присутствии знати и аульной верхушки.
В своей главной резиденции на р. Шовгаш он организовал производство пороха и подготовку артиллерийского парка для будущих сражений. Необходимую для изготовления пороха селитру получали из Карачая, а сера добывалась из Псекупских минеральных источников. Железо подвозили армянские купцы, на которых доставка его была возложена «в виде подати».
Политические причины объясняют и действия Магомед-Амина по отношению к отдельным социальным категориям адыгского населения.
Выше мы уже останавливались на характеристике отношений, складывавшихся между Магомед-Амином и поднявшейся разбогатевшей старшинской аульной верхушкой, с ее феодально-эксплуататорскими претензиями, и отметили умелое использование наибом ее социально-политических вожделений. Идя навстречу ее желаниям, он дополнительно вводит суровую меру наказания в виде отсечения правой руки за кражу. Факт отсечения руки за покушение на частную собственность аульной верхушки подтверждается целым рядом документов.
Не менее продуманно действовал он среди тех групп населения, у которых князья и дворяне сохранили еще власть и влияние. Здесь он вначале придерживался того же пути, по которому шло царское правительство России, ориентировавшееся на военно-феодальную знать, но очень быстро от этого отказался. Он понял, что решающим моментом для успеха дела мюридизма явится поддержка его адыгским крестьянством, почему и стал обещать тфокотлям «аристократических племен» полное освобождение их от всех повинностей в пользу князей и дворян. Уже в апреле 1850 г. русскому командованию стало известно, что среди бжедухов, населявших левый берег р. Кубани, ведется широкая пропаганда посланниками Магомед-Амина, который «старался подстрекнуть в свою пользу простой бжедухский народ обещанием свободы и независимости от князей и дворян, обременяющих народ». Эти обещания не могли не оказать определенное действие.
В результате создавалось достаточно неожиданное положение, когда царизм своей поддержкой князей и дворян отталкивал на сторону Магомед-Амина тфокотлей «аристократических племен», которые, видя возможность под влиянием Амина свергнуть власть высшего сословия, были далеки от всяких намерений возвратиться под покровительство России.
Этим объясняется и безрезультатность негодующих воззваний, направляемых к бжедухам русским командованием в момент наивысших успехов Магомед-Амина у бжедухских тфокотлей. 30 апреля 1850 г. генерал Заво-довский писал им: «...вы ли это те бжедухи, которые столько лет с честию стояли на рубеже русской границы? Так ли поступали ваши отцы в дни невзгоды?.. Опомнитесь же и с оружием в руках изгоните дерзкого пришельца. Еще время не ушло, и вы можете дружным восстанием и единодушным действием уничтожить дерзкие замыслы Магомета Эмина...».
Политика Магомед-Амина по отношению к крестьянству не была оригинальной: действуя указанным образом, он, по сути дела, лишь возродил ту тактику, которая применялась к тфокотлям турецкой администрацией во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Отсюда-то и проистекал ряд демагогических мероприятий, сопровождавшихся вынужденным ущемлением прав местной феодальной знати и совершенно незаслуженно стяжавших Магомед-Амину в исторической литературе славу вождя демократии. Такой подход к личности наиба приводил к тому, что его политика по отношению к крестьянству, повторявшая тактику анапских пашей (которых вряд ли, конечно, можно заподозрить в демократических симпатиях), рассматривалась рядом исследователей как деятельность непримиримого борца за освобождение народных масс Адыгеи, облекавшего свои действия в оболочку религиозного учения мюридизма.
Совершенно естественно, что часть тфокотлей, ведших упорную борьбу с князьями и дворянами, временно должна была подпасть под влияние Магомед-Амина. Проповедь «равенства сынов божиих» воспринималась ими как обещание избавления от посягательства дворян и князей на их труд и свободу. Этим и объясняется, что наибу Шамиля временами удавалось собирать под своими знаменами довольно крупные силы тфокотлей и обращать их против «русских», которые поддерживали их феодальную знать.
Русскому командованию трудно было заставить поэтому выступать адыгских тфокотлей так называемых «мирных племен» против войск Магомед-Амина в одних и тех же ополчениях вместе с их князьями и дворянами, и командиры таких сводных отрядов не раз доносили, что «простой народ по-прежнему не повинуется своим князьям и отказался быть в ополчении при нашем отряде, исключая только одних дворян и князей, которые занимают сами лагерь близ нашего отряда и сами же держат по дорогам караул». Князья и дворяне оказались в весьма затруднительном положении и обратились к русским властям «с просьбой о защите семейств и имуществ их вооруженной силой».
Поддержка феодальной знати была оказана, но в то же самое время была предпринята попытка воздействовать на тфокотлей. Рашпиль прямо заявлял: «При настоящем положении я считал обязанностию воспользоваться всяким средством, чтобы привлечь на свою сторону сколько возможно более приверженцев из простого народа».
Остановимся на тех формах организации управления адыгскими народами, которые насаждались Магомед-Амином.
Подчинив себе те или иные аулы и общины, Магомед-Амин приводил к присяге все мужское население в возрасте от 10 до 70 лет. Принесшим присягу давалось общее название «тендеши». После этого он приступал к устройству административно-полицейского аппарата. Вся населенная территория разбивалась на участки, в каждом из которых насчитывалось по сто дворов. Участок подчинялся старшине, получившему турецкое название «мух-тар». Обязанность старшины заключалась в наблюдении за беспрекословным исполнением приказаний наиба по выставлению требуемого им количества вооруженных воинов. В помощь мухтару участка давалось по пять хаджиретов, опираясь на которых он и осуществлял военно-полицейскую диктатуру. Это была мощная принудительная полицейская организация. Достаточно указать, что без разрешения мухтара и хаджиретов никто из жителей не имел права отлучаться за пределы участка. Они были обязаны помимо военной повинности поставлять для содержания ополчения определенное количество скота, хлеба и сена. Кроме того, население прикубанских аулов должно было нести постоянные караулы для наблюдения за движениями русских войск и поимки дезертиров.
Судебные дела рассматривались судьями, назначенными наибом, в преданности которых Магомед-Амин был уверен и которым вручалась неограниченная власть. По словам одного донесения, он, назначая судьями людей, «действующих с ним заодно, дает им право требовать всякого к ответу, брать штрафы и сажать в ямы. Адат они стараются совершенно уничтожить, чтобы прибрать к своим рукам всю судебную власть».
Изъятие судебных дел из ведения общинных учреждений было, одной из тех сторон государственности, насаждаемой Магомед-Амином, которая резко вклинивалась в толщу сохранявшихся еще родовых институтов. Она вызывала резко отрицательное отношение со стороны широких масс. Об этом говорит большое количество сообщений о действиях агентов мюридизма, указывающих, что «они разрушают старый обычай, по которому в каждой фамилии все должны защищать друг друга и мстить за каждого потерпевшего от чужих. Для них этот обычай опасен, потому что он может обратиться на них самих и уменьшает их власть, а потому они требуют, чтобы фамилии не распоряжались ни в каком деле по старому обычаю сами, а все дела отдавали на решение устроенных ими судов и таких мулл, которые с ними заодно. Вообще они стремятся к тому, чтобы уничтожить весь старый порядок и завести свой, в котором одни они имели бы власть и повелевали бы народом».
Несколько отдельных административных участков объединялись в округ. Во главе окружного управления стояли муфтий и три кадия. В каждом округе возводилось укрепление (мегкеме). Оно состояло из палисада, образовывавшего правильный четырехугольник около 50 сажен длиною и около 40 сажен в ширину. С наружной стороны палисад был окружен рвом. Внутри укрепления находились постройки, в которых размещались: судилище, конюшня, жилые помещения и склады продуктов. Под зданием судилища устраивалась тюремная яма для ослушников воли наиба. В нем же размещался гарнизон, состоявший из мутазигов и исполнявших полицейские обязанности «заптиев».
Муфтии назначались самим Магомед-Амином. Они были начальниками округов, а кадии составляли советы, действовавшие при них. Муфтии сосредоточивали в своих руках судебную и административную власть. Они же распоряжались вооруженными силами мутазигов, находившихся в составе гарнизонов мегкеме. Вся эта система увенчивалась диктаторской властью наиба, которому принадлежало «главное управление над каждым мегкеме».
Количество мегкеме не было постоянным. Оно изменялось в зависимости от военных успехов Магомед-Амина. Первоначально было устроено четыре мегкеме — по рекам Белой, Псекупс, Пшеха и Пшиш. Несколько позже мегкеме появились на реках Худако, Адагум, Антхир, Схоля-гуаш и др. Для постройки мегкеме жители должны были являться со своими инструментами, арбами и рабочим скотом.
При Магомед-Амине существовал еще особый меджлис, в который входили наиболее надежные и преданные ему люди: абадзехсхий старшина Хаджи Хасой Джандаров, старшина Берсебей, Абдулла Исмаил-эфенди, Хаджи Заде, Мухаммед-эфенди (муфтий натухайцев), кумык Хануко и Ибрагим хан Оглу, обычно доставлявший бумаги Магомед-Амина в Константинополь.
В особо важных и экстренных случаях наиб созывал съезды старшин.
Опираясь на созданный им аппарат управления и вооруженные отряды мутазигов, Магомед-Амин готовил почву для развертывания широких военных операций против России. Естественно, что эта подготовка сопровождалась тяжелыми материальными жертвами для населения. Особенно тягостной была повинность выставлять в ополчение людей, которые должны были следовать за кадровыми мутазигами Магомед-Амина. Определенных норм выставления ополченцев с каждого участка не было. В зависимости от обстоятельств жители участка должны были давать от десяти до ста мутазигов.
В высшей степени характерно то, что выставление ополченцев могло заменяться денежным налогом в размере пяти рублей серебром со двора: «этот налог избавляет от необходимости быть в отряде и служить в мартазаках».
Параллельно с этим Магомед-Амин ввел систему денежных штрафов за неисполнение религиозных обрядов, в частности за непосещение по пятницам мечети. Непосещение мечети каралось штрафом в размере одного рубля и дополнительным телесным наказанием. Следует отметить, что Магомед-Амин широко применял наказания для утверждения учения мюридизма в сознании населения.
Наряду с постоянной системой налогового обложения практиковались чрезвычайные взносы продуктами.
Широко применялась также и система штрафов, взимаемых за сношения и торговлю с русскими, за неявку в суд, отказ платить налоги, курение табака, музыку, танцы и песни. Эта система, несомненно, морально угнетала народные массы.
Что же касается старшинской верхушки, то большинство принимало ее полностью, не без основания видя в ней залог «общественного спокойствия» внутри аула.
Постоянным местопребыванием Магомед-Амина было мегкеме на р. Белой. Оно являлось главным административным и судебным центром Западного Кавказа. Отсюда исходили важнейшие распоряжения, сюда же свозились и преступники, дела которых разбирал сам наиб. В числе террористических мер, используемых наибом, наряду с наказанием розгами и расстрелом широко практиковалось утопление неугодных ему лиц в реке. Эта мера особенно часто применялась по отношению к русским пленным солдатам, отказавшимся ему служить.
Система террора в деятельности Магомед-Амина соединялась с настойчивой идеологической обработкой сознания масс, отравляемых ядом религиозного фанатизма.
Преданное Магомед-Амину мусульманское духовенство развернуло активную религиозно-политическую агитацию. Оно проповедовало беспрекословное подчинение воле турецкого султана и всем его распоряжениям, призывало к священной войне против русских, а также против тех мусульман, которые не признают власти наиба и проповедуемого им «нового учения». Сам Магомед-Амин даже манерой держаться старался внушить подданным мысль о своем постоянном общении с небесными силами. Погруженный в чтение корана, он часами заставлял приезжавшие к нему делегации дожидаться приема. С этой же целью им было осуществлено несколько специальных религиозных церемоний, обрядов, которые производили сильное впечатление на умы присутствующих. Они организовывались при помощи преданного ему эфенди Абдуллы, занимавшего пост начальника духовных училищ, созданных при главных мегкеме. В качестве учеников в эти училища набирались дети-сироты, проходившие в них особую систему воспитания и обучения, построенную в духе мусульманского аскетизма. Их водили в белых одеждах и чалмах со спускающейся сзади чадрою, доходившей до пят. Юные последователи мюридизма жили, в условиях, необычайно сурового режима: длительные молитвы и чтение корана перемежались с религиозными беседами и мистическими упражнениями, кроме того, они должны были соблюдать самую строгую умеренность в пище. Такой режим приводил к сильной возбудимости нервной системы подростков, доходившей, порой до галлюцинаций.
Рост движения адыгского населения против власти Магомед-Амина
Скоро стало ясно, что, несмотря на все усилия, Магомед-Амину не удастся создать прочной адыгейской государственности в рамках монархически-теократического режима. Причинами этого был ряд обстоятельств.
Адыгские князья и дворяне не могли подняться в своем политическом сознании до такой степени «самопожертвования» в области сословных интересов в пользу тфокотлей, чтобы, так сказать, во имя получения обещанного им довольно проблематического журавля в турецком небе упустить достаточно конкретную синицу, которую давало бы им в руки русское правительство.
Богатые старшины «демократических племен», тесно связанные торговыми интересами с Турцией, не возражая против формального присоединения Западного Кавказа к Оттоманской империи, отводили в то же время созданному Магомед-Амином режиму чисто служебную роль. Они рассматривали его как послушную военно-полицейскую организацию, но решительно отстаивали в то же время собственное административное влияние; Тяготея к Турции, они прекрасно, однако, знали, что представляет собой местная чиновничья турецкая администрация, и вовсе не приходили в восторг при мысли о том, что им придется подчиниться ей и уступить свое место в управлении.
Зависимость Магомед-Амина от влиятельных и богатых старшин отмечена всеми современными наблюдателями, несмотря на внешнюю почтительность, какая ему постоянно оказывалась ими. Майор д'Зрбинген, посланный французским командованием в июле 1854 г. для личных переговоров с Магомед-Амином относительно более быстрого развертывания им военных действий на Западном Кавказе и в Крыму, с изумлением пишет: «Я не знал тогда, кем был в точности наиб... судя по явной почтительности, которая его окружала, я полагал его подлинным вождем этих отцов племен, которые его сопровождали; позже я узнал, что он был ничем. Наиб был для них объектом уважения, но находился он среди них только для того, чтобы просить их помощи; он просил, но не командовал».
Что же касается простого народа, то,испытав ряд тяжелых военных ударов и убедившись в двуликой политической игре со стороны Магомед-Амина, он стал обнаруживать к последнему прямую враждебность, усиливавшуюся еще и экономическими трудностями. В ходе развернувшихся в 1851 г. событий выяснилось, что одной из важнейших причин такого поведения было нежелание разорвать установившиеся экономические связи с русскими, чего так настойчиво требовал Магомед-Амин и стоявшие за его спиной враждебные России державы.
Общий ход событий в 1851 г. характеризуется следующим образом: в начале этого года русское командование приступило к постройке Белореченского укрепления за р. Лабой, что произвело очень сильное впечатление на абадзеюв. Они воочию убеждались, что Магомед-Амин не может оказать серьезное сопротивление русским войскам и своими действиями лишь разжигает пожар. Не приходится поэтому удивляться, что в ноябре 1851 г. значительная часть абадзехов вопреки воле наиба самостоятельно вступила в отношения с русским командованием и согласилась беспрепятственно допустить производство топографической съемки по линии р. Белой до Майкопского ущелья.
Однако еще перед этим военно-политическому престижу Магомед-Амина был нанесен серьезный удар в связи с его неудачной попыткой переселения бесленеевцев, вступивших в мирные связи с русскими властями. Стремясь поддержать мысль о своей силе и военных возможностях, он в мае попытался переселить их в горы, не останавливаясь перед столкновением с русскими войсками. Произведя смелое тактическое движение, он обошел русский отряд генерала Евдокимова, стоявший у станицы Вознесенской, и, перейдя через Уруп, вторгся на территорию, куда были поселены бесленеевцы. Мутазигам удалось захватить жителей трех бесленеевских аулов и заставить их погрузить все свое имущество на арбы, но в этот момент к месту событий подошли русские войска. Магомед-Амину пришлось поспешно отступить вниз по Уру-пу. На следующий день (14 мая) при переправе через Уруп он был атакован отрядом Евдокимова. Бросив обозы, Магомед-Амин прорвался с захваченным населением указанных трех аулов, но близ Джелтмесских высот подвергся новой атаке. В этом сражении он потерпел полное поражение и вынужден был бросить переселяемых бесленеевцев. Поражение на Урупе имело очень большое значение: горцы, вынужденные до тех пор признавать власть наиба, после этого открыто поднялись против него. Первыми восстали шапсуги, жившие на южном склоне Кавказского хребта.
В августе 1851 г. командующий 2-м Отделением береговой линии генерал Вагнер в своем рапорте писал:
«Живущие между реками Аше и Псезуапе шапсуги, как дворяне, так и простой народ, узнав о приезде моем... в форт Лазарев, прислали ко мне просить позволения собраться для народного совещания, возле самого форта, с тем, что если они согласятся жить с русскими миролюбиво, то будут просить о заключении условия. Получив просимое позволение и уверение, что, пока они не начнут неприятельские действия, по них не будут стрелять, собрались 12 числа вблизи форта около тысячи человек шапсугов. Между собою они долго спорили, наконец простой народ, давший уже присягу не слушаться более ни в чем Магомета-А мина, заставил дворян дать сию же присягу, присовокупив к тому, что дворяне должны действовать с простым народом заодно, в случае другие племена нападут на них, за возобновление дружеских сношений с русскими (подчеркнуто мною.— М.П.), и потом просили меня к ним выйти. С восторгом приняли они меня, окружили и после совещания, весьма продолжительного, они единодушно согласились на следующие условия:
1-е). Не стрелять и не нападать на солдат, встречающихся вне форта.
2-е). Не только не отбивать наш скот, но заблудившийся возвращать обратно.
3-е). Не иметь у себя лодок.
4-е). Выдавать дезертиров.
5-е). Не выкапывать мертвые наши тела.
6-е). Не ходить на форштадт и огороды форта.
7-е). О злых против нас умыслах других горских племен заблаговременно давать знать».
С своей стороны генерал Вагнер обещал:
«1. Позволить... посещать меновой двор, но торговать только на деньги и материю.
2. Выдавать семействам... живущим в 1150 дворах, по три фунта соли на душу ежемесячно за деньги, полагая за пуд по 20 коп. серебром.
3. Вернуть захваченный... скот.
4. Выбегающих... крестьян не отправлять с первым пароходом, а задерживать до следующего, дабы владелец имел время уговорить их к добровольному возвращению».
В этом рапорте генерала Вагнера, несмотря на всю нечеткость его терминологии, в силу чего богатые и влиятельные старшины в нем названы дворянами и объединены общим именем с остатками старого шапсугского дворянства, не игравшего уже серьезной роли в общественных делах, перед нами выступает подлинная политическая инициатива народных масс, стремившихся сбросить со своих плеч режим Магомед-Амина.
Командование, однако, этой разумной инициативы и заключения договора с шапсугами не поддержало, категорически отказав утвердить обещанный им отпуск соли.
Несмотря на ряд подобных же фактов отношения русских военных властей, движение против Магомед-Амина разрасталось.
Вскоре оно перебросилось на северный склон западной части Кавказского хребта. Жившие здесь шапсугские общины в июне изгнали аминовских «чиновников» и мута-зигов, сожгли лес, заготовленный для постройки мечетей, демонстративно восстановили уничтоженные Магомед-Амином кресты на кладбищах и возобновили торговлю с русскими. Во главе восставших шапсугских тфокотлей стоял Хоротокор Хамирза Кобле.
Вслед за шапсугами начали подниматься и другие горские народы. В половине октября принесли присягу русскому правительству беглые кабардинцы и признававшие Магомед-Амина бесленеевцы.
То же самое стремление к свержению власти наиба обнаружилось и у абадзехов, где его позиции казались особенно прочными. Вскоре их депутация в количестве двухсот человек прибыла в Прочный Окоп для ведения мирных переговоров.
Отказ же бжедухов от признания власти Магомед-Амина и повторное принесение ими присяги русскому правительству в конце 1851 г. сопроводились характерным эпизодом. В сентябре они обратились к командующему Черноморской кордонной линией генералу Рашпилю с просьбой о присяге России, на что получили согласие с условием выдачи бжедухами заложников и принесения общей присяги всем «бжедухским народом». Когда эти условия были сообщены бжедухам, то, к удивлению русских властей, обнаружилось, что бжедухские тфокотли категорически отказались принести совместную со своими дворянами и князьями присягу русскому правительству. Этот факт был проявлением тех противоречий, которые имели место между массой тфокотлей и феодальной знатью. Бжедухские тфокотли рассматривали совместную с дворянами и князьями присягу русскому правительству как обстоятельство, могущее обусловить дальнейшие притязания князей и дворян на их труд, имущество и свободу, после того как они станут русскими подданными.
Мелкие бжедухские дворяне, стремясь сохранить хотя бы часть сословных привилегий и недовольные тем предпочтением, которое всегда оказывалось русскими властями крупной дворянско-княжеской знати, стали на путь социально-политической демагогии. Они решили «объединиться» с тфокотлями и выступить поборниками и защитниками крестьянства, его попранных прав. «Оказалось,— пишет генерал Рашпиль,— что большая часть дворян и весь простой народ не расположены к князьям и что все они вместе никак не могут согласиться между собою касательно принятия присяги».
Испуганные князья, «сознавая справедливость некоторых обвинений», готовы были идти на уступки и даже предложили устроить «высший суд из шести лиц». Однако это уже не помогло: соглашения достигнуть не удавалось, и русские власти, как обычно бывало, не будучи в состоянии отказаться от поддержки феодальной знати, заставили непокорных присягнуть вместе с князьями.
Несмотря на такое политическое соглашение, обусловленное всей системой общественных отношений крепостной России, создавшееся положение грозило для Магомед-Амина полной катастрофой. Это был критический момент в его деятельности. В начале декабря 1851 г. он в сопровождении группы наиболее преданных ему лиц и отрядов мутазигов укрепился в мегкеме на р. Псекупс и прилагал последние усилия, чтобы удержать в своих руках власть. По его распоряжению сюда стягивались мутазиги со всего Западного Кавказа, и к половине декабря у него снова было уже несколько тысяч человек, готовых выполнить его приказания.
В первой половине декабря 1851 г. за Кубань под командованием генерала Рашпиля был двинут отряд численностью 2,5 тысячи человек при восьми орудиях для действий против мутазигов Магомед-Амина, сосредоточившихся возле черченеевского аула Вочепши. Узнав о движении к черченеевцам русского отряда, хамышеевцы выслали делегатов с просьбой разрешить им выставить свои вспомогательные отряды для участия в походе. Генерал Рашпиль дал согласие, так как, по его словам, «предложение это невозможно было оставить без внимания». Связанные присутствием на их территории войск Магомед-Амина, черченеевцы вначале не решались открыто отказаться от признания его власти над собой. Однако как только соединенные силы русского и хамы-шейского отрядов подошли к аулу Вочепши, они вышли навстречу без оружия, «прося пощады и изъявляя готовность тотчас же принять присягу». Генерал Рашпиль, верный своей тактике избегать ненужного кровопролития, удовлетворил их просьбу и отказался от всяких репрессий. Такое решение он мотивировал тем, что нельзя «оставить без внимания бедственного положения страны в последние два года со времени, как этот народ признал над собою власть Магомед-Амина».
В этот момент Магомед-Амин, не решившись вступить в бой с соединенными силами русского и бжедухского отрядов, пустил в ход местное мусульманское духовенство, которое развернуло усиленную агитацию за продолжение войны. Объясняя это обстоятельство, генерал Рашпиль подчеркивал, что Магомед-Амин, будучи сам лицом духовным, «утвердил свою власть преимущественно помощию духовенства, которое приобрело в народе значительное влияние, особенно поддерживаемое Магомет Амином». С поступлением же черченеевцев под власть России «духовенство потеряет свою силу, а следовательно, и влияние на народ. При таких условиях эфенди, муллы и гаджи всеми мерами старались отклонить народ от присяги».
Однако и этот шаг Магомед-Амина не привел к желанным для него результатам. Присутствие русских войск явилось фактом, поборовшим всякие колебания коренного населения, которое предпочло, к великому негодованию Магомед-Амина, бренное земное существование «райскому небесному блаженству». После этого мусульманское духовенство многих черченеевских аулов демонстративно отказалось от принесения присяги России и, предав проклятию маловерную паству, оставило свои дома и бежало в леса и в лагерь Магомед-Амина.
Узнав о происшедшем, Магомед-Амин в ночь с 14 на 15 декабря со всеми войсками отошел от аула Вочепши вверх по р. Псекупс.
К вечеру 16 декабря присягнула вся Черченея, за исключением лишь одного аула Псегуб, находившегося в верховьях р. Мате у самых границ Абадзехии.
Войска Рашпиля были атакованы мутазигами Магомед-Амина, но контратакой хамышейских всадников совместно с казачьей учебной командой это нападение было отбито.
19 декабря, закончив принятие присяги от всех без исключения черченеевских аулов, Рашпиль с войсками стал переправляться на правый берег Кубани.
Магомед-Амин смог сохранить некоторое влияние у убыхов. Причем отъезд его к убыхам был тесно связан с деятельностью старшин из дома Берзеков, которые, прежде чем пригласить наиба, провели всю необходимую подготовку, а именно — отстроили «тюрьмы и другие общественные дома, предназначенные для введения его системы управления». Отсюда Магомед-Амин отправил в Константинополь доверенных послов: хана Оглу, эфенди Барсыбея и Берзека, которым поручил осветить создавшееся положение и просить помощи правительства Турции. Однако престиж его в Константинополе был настолько подорван описанными выше событиями, что послы долго безуспешно обивали пороги министерских приемных.
А тем временем волна восстания докатилась до последнего убежища Магомед-Амина в землях убыхов, и восставшие взяли, а затем сожгли мегкеме, построенное им в долине Вардане.
В этот критический для дела мюридизма момент, когда казалось, что движение, поднятое на Западном Кавказе Магомед-Амином, окончательно выдохлось и что ему больше ничего не остается сделать, как признать свой политический крах, на помощь пришли зарубежные силы.
Получив обнадеживающие известия из Константинополя, Амин отправил к назначенному им в качестве муфтия натухайцев Хаджи Оглу Магомет-эфенди письмо, в котором, уведомляя его о якобы полученном им «от турецкого султана фирмане, просил его удержать на несколько времени народ от изъявления покорности русскому правительству».
Одновременно он взялся за восстановление своего влияния у абадзехов, из которых часть склонна была признать его власть, другая же не присоединилась к нему.
Состояние архивных документов не позволяет нарисовать полную картину этого в высшей степени важного момента в истории адыгейского народа. Они говорят лишь о том, что весною 1852 г. Магомед-Амин созвал на Псеку-псе старшин шапсугов, натухайцев, абадзехов, а также убыхов и имел с ними длительное совещание, на котором обсуждался вопрос о мерах упрочения падающего режима. На этом совещании им было объявлено, что Турция готовится к войне с Россией. Протурецки настроенная старшинская верхушка горячо откликнулась на призыв наиба, мобилизовав все имевшиеся в ее распоряжении силы и средства.
Многие современники отмечали, что обстановка, сложившаяся на Западном Кавказе к концу 1852 г., обещала, казалось, скорое спокойствие, если бы не произошло новое вмешательство Турции и европейских держав, готовившихся к войне с Россией. Заключив союз с Англией и Францией, Турция не замедлила в начале 1853 г. «выслать своих агентов Для подстрекательства к вооруженному восстанию против русских всех закубанских горцев». Действительно, начавшаяся Крымская война снова осложнила обстановку на Западном Кавказе и снова временно укрепила положение Магомед-Амина.
Очерк седьмой. Западный Кавказ в годы Крымской войны
Организация обороны Западного Кавказа к началу Крымской войны
Годы Крымской войны на Западном Кавказе ознаменовались стремлением европейских держав и Турции поднять общее движение горских народов против России, организовав его при помощи деятельной политической пропаганды и развертывания здесь операций своих войск. В общем плане военных действий турецкое и. англофранцузское командование отводило местным народам весьма существенную роль. Понятно поэтому, что когда вопрос о неизбежности войны с Россией в правящих сферах европейских держав был уже предрешен, то с новой силой стали распространяться слухи о том, что «в судьбе кавказских народов принимают участие английское и французское правительства» '. Распространение этих слухов имело целью подготовить горцев к той роли, которую им намечали союзники. Кроме того, союзное командование рассматривало Западный Кавказ и как сырьевую базу, откуда зерно, скот и фураж могли легко перебрасываться по морю в Крым.
В мае 1852 г. к Магомед-Амину прибыли два «европейца» с депешами и значительной суммой денег. Они привезли ему из Константинополя прямые указания о немедленном развертывании среди горцев военно-подготовительной работы ввиду близящегося начала войны против России европейских держав и Турции. Как писал в своем донесении начальник главного штаба Кавказских войск, в доставленных этими «европейцами» Магомед-Амину бумагах «поощрялись его действия к восстановлению в народе исламизма и враждебных действий противу нас, а также сказано, что России скоро угрожает война с европейскими государствами... Мухаммед-Эмин старается сделать сколь можно менее известным в народе прибытие этих европейцев и потому отправил их в ущелье реки Дахо». На вопрос, кого так старательно скрывал от любопытных взоров Магомед-Амин, мы ответить не можем, но не приходится сомневаться, что эти лица явились на Кавказ с весьма важными поручениями. Вслед за ними к Магомед-Амину прибыли еще несколько человек иностранных агентов, постоянно сопровождавших наиба и находившихся в составе его свиты. Естественно, что это не могло не дезориентировать население, которому настойчиво внушалось, что враждебные России державы, готовясь к войне против нее, уже прислали к Магомед-Амину своих «полковников».
Впоследствии Магомед-Амин открыто признавал, что был осведомлен о подготовке Крымской войны задолго до ее начала.
Английская военная разведка уже к 1850 г. провела снятие планов и нанесение на карту местонахождения всех русских укреплений Черноморской береговой линии.
Материалы, относящиеся к 1851 —1853 гг., свидетельствуют о дальнейшем усилении разведывательной деятельности союзников на Западном Кавказе. В частности, целый ряд донесений сообщает о «европейских путешественниках», которые в сопровождении горцев рассматривали в подзорные трубы русские укрепления с окружающих их высот. Это были английские и турецкие офицеры, стремившиеся уточнить все детали русской оборонительной линии Черноморского побережья.
Началом военных действий на Западном Кавказе во время Крымской войны можно считать события, развернувшиеся здесь летом 1853 г.
Попытка командующего Черноморской береговой линией вице-адмирала Серебрякова оказать помощь населению побережья, боровшемуся против диктатуры Магомед-Амина, привела к тому, что последний, ускользнув от решитительных столкновении с русскими войсками, демонстративно сжег несколько аулов в окрестностях Новороссийска, жители которых отказали ему в повиновении. Он наказывал их чуть ли не на виду у одного из самых сильных русских укреплений, и вполне естественно, что это не могло не породить мысль о том, что «русские не в силах задержать Эмина». Большое впечатление произвела также казнь нескольких десятков шапсугских и натухайских тфокотлей из числа державшихся русской ориентации.
Все это в соединении с призывами мулл к священной войне и уверениями в близкой высадке англо-турецкого десанта создало для Магомед-Амина возможность начать крупные военные операции против русских войск. Предварительно он заставил шапсугов и натухайцев прервать мирные отношения с русскими и выставить достаточно крупные силы.
Кроме того, он снова умело использовал вражду тфокотлей «аристократических племен» к их военно-феодальной знати и, обещая полное уничтожение власти князей и дворян, сумел привлечь на свою сторону значительную часть бжедухских тфокотлей.
Тем не менее большое число жителей аулов, прилегавших к левому берегу р. Кубани, не желая идти за Магомед-Амином и поддерживать турок в наступавшей войне, просили русское командование разрешить им переселиться на его сторону. В делах Управления Черноморской кордонной линии сохранилось много документов, заключающих в себе эти просьбы и сведения о перевезенном просителями имуществе и перегнанном ими на правый берег Кубани скоте. Несколько сот закубанцев были размещены даже в самом Екатеринодаре, в сушильнях и сараях кирпичного завода. Приведенный скот им разрешили пасти на общегородском пастбище.
Жителям же аулов Бжегокай и Малый Энем, поголовно бежавшим на русскую сторону Кубани, было позволено произвести запашку земли и посевы хлеба на правом берегу Кубани. В силу политико-стратегических соображений это разрешение было затем распространено и на жителей всех других прикубанских аулов, которые отказывали в повиновении Магомед-Амину.
Имея посевы на русской территории, они, естественно, держались гораздо более твердо и уверенно по отношению к требованиям Магомед-Амина.
Между тем в распоряжении командования Черноморской береговой линии имелись крайне незначительные военно-морские силы. Они состояли из четырех парусных и восьми транспортных судов, пяти пароходов и одной паровой шхуны. Из этой эскадры более или менее боеспособными судами были лишь парусные. Что же касается пароходов, то они имели крайне слабое артиллерийское вооружение и слабые машины, вследствие чего, по отзывам вице-адмирала Серебрякова, не могли ни сражаться, ни уйти от неприятельских сильных пароходов в случае встречи с ними. Вдобавок к этому пароходы береговой линии обслуживались английскими машинистами, на которых никак нельзя было положиться во время военных действий и которые, плавая ряд лет у кавказских берегов, немало потрудились в интересах английской военной разведки. Только в марте 1854 г. по настоятельному требованию адмирала Корнилова эти машинисты-механики были заменены русскими инженерами. Такое состояние морской обороны береговой линии свидетельствовало о военно-технической отсталости николаевской России, правительственный аппарат которой оставался глух ко всем разумным требованиям и предложениям, исходившим снизу. В частности, нельзя не отметить, что М. П. Лазарев еще в 40-х годах настаивал на увеличении числа паровых судов в Черноморском флоте и доказывал необходимость оснащения их более мощными трубочными котлами, предлагая начать изготовлять последние в России.
Вице-адмирал Серебряков предупреждал, что после ввода в Черное море английской и французской эскадр укрепления береговой линии окажутся в серьезной опасности.
С большим трудом ему удалось получить из Севастополя 62 пушки, которые потребовались для оснащения береговых батарей. Что же касается его просьб об усилении береговой линии военными судами, то из этого ничего не вышло.
Таково было положение дел на побережье Западного Кавказа в тот момент, когда 9(21) февраля 1854 г. Николай 1 объявил манифестом о разрыве дипломатических отношений с Англией и Францией.
В то время как командование береговой линии тщетно изыскивало средства и возможности для обороны хотя бы главнейших ее пунктов, суда союзников уже начали свои операции в Черном море. 19(31) января четыре неприятельских паровых фрегата не подымая флагов, неожиданно появились на феодосийском рейде в виду стоявших там русских судов и, оставаясь вне пушечного выстрела, начали производить промеры глубин морского дна. Полчаса спустя они демонстративно подняли английский и французский флаги и, взяв курс на север, скрылись за Феодосийским мысом. 14 февраля князь Меншиков приказал немедленно направить суда береговой линии в Севастополь.
С отводом в Севастополь эскадры судьба укреплений береговой линии была решена. Помимо того, что они, не обладая необходимым артиллерийским вооружением, были бы разгромлены с моря мощной морской артиллерией союзников, гарнизоны их, лишенные доставки продовольствия морем, обрекались на голодную смерть. В первую очередь эта угроза нависала над южным участком линии, расположенным между Гаграми и Новотроицким укреплением, который не имел никаких других средств сообщения, кроме морских. Однако и укрепления северной части линии на пространстве побережья от Геленджика до Анапы хотя и имели некоторую возможность сообщения по суше с внутренними пунктами Черномории, однако не могли получить того количества провианта и фуража, в каком они нуждались.
Полная неподготовленность береговой линии к борьбе против соединенных сил союзников для местного командования была совершенно очевидной, и князь Воронцов прямо высказал это военному министру 5 февраля 1854 г.: «... форты Черноморской береговой линии не могут устоять против морских сил союзных держав». Он указывал, что при сооружении этих укреплений не входила в расчет возможность войны с Англией и Францией и что в силу этого «и средства, предположенные для одной войны с турками и горцами, не могут уже соответствовать предстоящей борьбе». Более того, М. С. Воронцов считал возможным вести «столь неравномерную войну» лишь при условии временной уступки значительной части русских укреплений на Черноморском побережье противнику, что только и может «дать способ сосредоточить достаточное число войск, чтобы защищать и поставить в оборонительное положение главные и существенные точки края». Подчеркивая важность обороны Анапы, Новороссийска и Геленджика, князь Воронцов обусловливал, однако, успех этой обороны обязательной поддержкой их гарнизонов со стороны моря русским флотом. Удержание данных крепостей необходимо потому, писал он, «что при овладении этих пунктов неприятель может вторгнуться в Черноморию и далее, не находя никакого сопротивления. Этот край сделается жертвою, и последствия этого будут для Кавказа пагубными».
Признавая необходимость обороны некоторых крепостей, князь Воронцов в то же время стремился снять с себя всякую ответственность за ее успешную организацию, мотивируя это тем, что «пункты эти слишком удалены от Тифлиса». Поэтому он предлагал северную часть береговой линии выделить из его ведения и поручить ее оборону вместе с защитой Черномории князю Меншикову.
Кроме Новороссийска, Геленджика, Кабардинского укрепления и Анапы, в состав северной части береговой линии входили еще укрепления Гостагаевское, Джеме-тейское, форт Раевский и пять укрепленных станиц (Николаевская, Александровская, Суворовская, Витязевская и Благовещенская).
Русское правительство осознавало всю серьезность последствий возможного вторжения войск противника в Прикубанье. Оно учитывало также и расчеты союзного командования на поддержку военных операций силами местных ополчений.
При этой поддержке прорыв войск союзников на Кубань мог заставить русское командование отказаться от всяких военных операций в азиатской части Турции.
Указанные опасения отчетливо прозвучали в предписании военного министра атаману Донского казачьего войска, в котором особенное внимание обращалось на возможность высадки турецких войск с их западными союзниками в северной части береговой линии или даже на берегах Азовского моря. «К первому из сих предприятий,— сообщалось в предписании,— может побудить их надежда на общее против нас восстание береговых и закубанских горских племен (подчеркнуто мною.— М. П.), с тем чтобы двинуться или на Черноморию для отвлечения сил Кавказского корпуса от турецкой границы (подчеркнуто мною.— М. П.), или через Лабинскую линию наперерез Военно-Грузинской дороги. Высадка на берегах Азовского моря может иметь целью разорение наших торговых центров в Таганроге, Бердянске и Ростове, занятие хлебородного побережья и отвлечение войск, назначенных для обороны Крыма».
Отражение удара союзников в тыл Отдельного Кавказского корпуса со стороны Кубани и обеспечение обороны всей территории, прилегающей к побережью Азовского моря, Николай I возложил на Донское казачье войско.
Общее командование войсками, расположенными в северной части береговой линии, было поручено наказному атаману Донского казачьего войска генерал-адъютанту Хомутову. В данном ему предписании военный министр указывал, что главной задачей вверенных ему войск на побережье Черного и Азовского морей является оборона Анапы и Новороссийска и недопущение высадки противника в устье р. Кубани. Хомутов предоставил впоследствии атаману Черноморского казачьего войска генералу Кухаренко действовать самостоятельно. Он подчеркивал, что задача войска на побережье Азовского моря заключается в защите косы Тузла, Тамани, Фанаго-рии и Темрюка. При этом главное внимание предлагалось обратить на оборону Керченского пролива со стороны Таманского полуострова, для чего на косе Чушка должна была быть устроена батарея из восьми орудий с пехотным прикрытием. В случае высадки десанта противника на Таманском полуострове вице-адмирал Серебряков должен был помочь Черноморскому войску частями, находившимися в его подчинении.
Необходимость быстрого оставления большей части укреплений береговой линии становилась совершенно очевидной для русского командования. Уже в начале февраля 1854 г. Серебряков под строжайшим секретом известил начальников укреплений о том, что последние могут быть сняты, и предложил провести незаметную подготовку к их эвакуации.
Вскоре последовало и общее распоряжение, и в течение 24 часов 4—5 марта 1854 г. были сняты Новотроицкое, Тенгинское, Вельяминовское, Лазаревское, Головинское и Навагинское укрепления, охранявшие линию побережья на протяжении ста морских миль. Гарнизоны их вместе с женщинами, детьми и вольнопромышленниками эвакуировались в Геленджик и Новороссийск.
Оставление русскими войсками названных укреплений проведено было весьма своевременно и не позволило англо-французскому командованию одержать, легкую победу над этими слабыми фортами с их немногочисленными гарнизонами..
К концу работ по снятию последнего — Навагинско-го — укрепления на взморье показались два неприятельских парохода-фрегата, которые не решились, однако, воспрепятствовать окончанию операции и ограничились одним наблюдением. Эти суда входили в состав той эскадры, о которой писал Ф. Энгельс: «Тем временем два линейных корабля (винтовых парохода) и семь паровых фрегатов находятся на пути в Черкесию. Они были назначены для разведок у берегов Крыма с тем, чтобы после этого разрушить форты на черкесском побережьи».
Вечером 4(16) марта 1854 г. к устью р. Пшады, где находилось оставленное уже к этому времени русскими войсками Новотроицкое укрепление, подошли еще два неприятельских паровых корабля и высадили на берег десант. Командир отряда через переводчика вступил в переговоры с собравшимися на берегу горцами. Выяснив, что Новотроицкое укрепление только что разрушено самими русскими, он заявил им, что в течение 20 дней все укрепления, не исключая Анапы, Новороссийска и Геленджика, будут русскими сняты, в противном случае их возьмут силою оружия.
Главная цель, которая была поставлена перед командованием этой эскадры, заключалась в том, чтобы выяснить, какие именно пункты Черноморского побережья намерены защищать русские, и войти в сношения с коренным населением. Контр-адмирал Лайонс должен был встретиться с «главными черкесскими вождями» и убедить их в поддержке, которую Турция и союзники окажут им при условии организации ими общенародного восстания.
Лайонс привез с собой из Константинополя влиятельного убыха Измаил-бея, которого высадил на его родине, в Вардане, и который стал в некотором роде главным английским доверенным на Кавказе.
После вывода гарнизонов из всех мелких укреплений береговой линии русское командование сосредоточило имевшиеся в его распоряжении силы в районе Анапы и Новороссийска. Оба эти пункта были связаны сухопутными дорогами с Екатеринодаром и Черноморской кордонной линией. Что же касается Геленджика, то вследствие трудности сообщения по дороге, соединявшей его с Новороссийском, русское командование не считало возможным его защищать.
Оборона Анапы и Новороссийска играла весьма важную роль. К. Маркс, анализируя ход подготовки союзниками экспедиции против Крыма, отмечал стратегическое значение этих крепостей и указывал, что экспедиционные войска могут быть направлены также в Анапу и находящуюся рядом с ней крепость, захват которой дал бы возможность установить сообщения между Абхазией, Черкесией и Крымом, тогда черкесы могли бы легко принять участие в нападении на Крым.
Русское командование осознавало эту опасность.
Если правительство не ошибалось в оценке намерений противника использовать закубанцев в качестве орудия борьбы с Россией, то оно сильно переоценивало стремление их самих поддержать эти планы. Как мы увидим дальше, основная масса населения Западного Кавказа решительно отказалась принять участие в Крымской войне на стороне враждебной России коалиции.
Безуспешные попытки поднять адыгов на борьбу против России
Контр-адмирал Лайонс, произведя общее ознакомление с положением дел в Черкесии, сделал вывод, что без немедленного прекращения постоянной розни между отдельными народами немыслимо осуществить единство действий союзных войск и их ополчения. По его мнению, «горцы нуждались в вожде», который принял бы верховное командование и пользовался бы высшей властью над ними.
Наиболее подходящей фигурой для этого являлся именно Магомед-Амин: «...наиб, или лейтенант Шамиля (Махомед Эмин), казалось, отвечал этим условиям, и различные племенные вожди, по-видимому, склонны были подчиниться ему» [2, 116].
Не дождавшись Магомед-Амина в Геленджике, Лайонс 14 мая 1854 г. направился к Вардане и здесь вместе с высаженным ранее на берег убыхским старшиной Измаил-беем оставил капитана Брука, лейтенанта инженерных войск Тоутона, доктора Сореля и пять саперов-минеров, им было поручено найти наиба и «посоветоваться с ним о способах атаки Суджука и Анапы». Автор цитируемого выше источника сообщает: «Согласно инструкции, данной капитану Бруку адмиралом Лайонсом, который мне ее сообщил, этот демарш к черкесскому вождю был сделан от имени Англии и Франции».
Одновременно с этим Магомед-Амин получал инструкции из Константинополя. Для перевозки ожидавшейся из Турции артиллерии и военных грузов с убыхов, абадзехов и шапсугов он собрал две тысячи пар волов и тысячу лошадей. Кроме того, в качестве продовольствия для союзных десантных войск с каждого двора было взято по одному быку и по мерке хлеба. Скот и продукты находились в мегкеме под надзором вооруженных мутазигов.
В мае 1854 г. при Магомед-Амине образовался постоянно действующий штаб, в состав которого входили несколько наиболее близких к нему лиц. Этому штабу удалось организовать регулярное оповещение населения о происходящих событиях и систематическую рассылку воззваний, основными мотивами которых были призыв «к поднятию оружия противу неверных» и угроза разорения аулов, поддерживающих добрососедские отношения с русскими.
С особенной торжественностью прибрежным аулам сообщалось о намерении английского правительства объявить войну России. В самые отдаленные и глухие ущелья были посланы гонцы с известием об этом. Характерно, что оно сопровождалось уверением в том, что не позже чем в марте или апреле 1854 г. «непременно придут к Новороссийску турецкие и английские суда с войсками». Одновременно Магомед-Амин требовал, чтобы к указанному сроку собрались «все горцы, могущие владеть оружием, для присоединений к этим войскам и совместного уничтожения всех русских укреплении и крепостей».
Сефер-бей, находившийся в Константинополе, рассматривал в этот период Магомед-Амина как своего прямого союзника. В письмах к нему он требовал, чтобы тот держал наготове крупные вооруженные силы, дабы «как только турецкие суда покажутся в море, то чтобы черкесы... старались поспешить народным вооруженным собранием присоединиться к турецким войскам и действовать совокупными силами противу русских». Чтобы облегчить деятельность Магомед-Амина по формированию вспомогательной армии, Сефер-бей в конце мая 1854 г. прислал всем адыгейским народам обращения, в которых писал: «...вы старайтесь до прибытия нашего не давать покоя религиозным врагам нашим вместе с правоверным и совершенствующим религию нашу наибом (подчеркнуто мною.— М. П.), соединившись с ним в одно, не разделяясь один с другим по собственному своему рассуждению, не сохраняя между собою вражды, как велит наш шариат. С таким повиновением, в какой бы ни было день получится вами приказание от наиба... будьте все в одном мнении, соединитесь с ним, старайтесь не давать неверным времени и покою... Бог даст, овладев Сухумом, ожидайте соединения с нами».
Однако широко задуманный план вторжения союзных войск на Западный Кавказ осуществлен не был. Поражение турецких войск на Чолоке, у Баязета и у Кю-рюк-Дара летом 1854 г., героическая борьба защитников Севастополя и трения по кавказскому вопросу между правительствами Франции и Англии обусловили это обстоятельство. Самые заманчивые обещания, сделанные лично прибывшим летом 1854 г. в Варну Магомед-Амином французскому маршалу Сент-Арно, касались готовности поднять все горские народы и предоставить в распоряжение союзников сорок тысяч вооруженных ружьями людей, «чтобы отрезать русским отступление и уничтожить их».
Пребывание Магомед-Амина в Варне сопроводилось торжественным приемом возглавляемой им «черкесской делегации». Сент-Арно даже устроил в их честь смотр кавалерии. Однако дальше этого дело не пошло.
Турецкому же правительству, в свою очередь, в начале войны рисовалась радужная перспектива «...соединить черкес и всех магометан, как живущих на берегу Кубани, так и внутри России, без кровопролития правоверных магометан-турок, а употребить на это неверных против неверных».
Не получив реальной помощи от союзников, турецкое правительство вынуждено было само развертывать военные действия на Кавказе. Оно и приступило к ним, но крайне неуверенно и нерешительно, опасаясь бросить сюда крупные силы. Еще в 1853 г. был сформирован так называемый Батумский отряд турецких войск. Предполагалось, что он будет действовать вдоль берега Черного моря и соединится здесь с силами местных ополченцев. Кроме того, этот отряд должен был воспрепятствовать русским войскам овладеть Карсом и перерезать коммуникации.
Батумский отряд в конце октября 1853 г. начал свои действия взятием укрепления Св. Николая, находившегося близ турецкой границы. Этот маленький форт с гарнизоном, состоявшим из двух неполных рот нехоты, не мог выдержать натиск пятитысячного отряда турок. Последовавшее затем в феврале 1854 г. оставление русскими войсками укреплений береговой линии позволило туркам почти без выстрела занять Поти и Сухуми. После этого в Сухуми торжественно прибыл из Константинополя Сефер-бей. Ему было поручено турецким правительством в контакте с Магомед-Амином организовать широкое движение народов Западного Кавказа. Общий контроль за деятельностью их обоих был возложен на «маршала земли черкесов и батумской армии» Мустафа-пашу. Сефер-бей с присоединившимися к нему мутазигами и вспомогательным турецким отрядом должен был по ущельям р. Кодор направиться для занятия Карачая. Это заставило выделить из числа русских войск, сосредоточенных на верхней Кубани, отряд, который 2 июля 1854 г. занял позицию у Хохандуковского аула. Одновременно с этим Магомед-Амин, координируя свои действия с действиями Сефер-бея, должен был с верховьев р. Лабы также двинуться в Карачай. В случае успешного осуществления этого плана центр русской обороны на Северном Кавказе оказался бы прорван. Это, в свою очередь, могло сильно отразиться на общем ходе военных операций, заставив русское командование прекратить активность в азиатской части Турции.
Магомед-Амин в апреле 1854 г. разослал горским народам очередное обращение. В нем он писал, что «десант на время замедлился, но что от султана приказано поднять все племена». Для того чтобы заставить колебавшихся выступить против России, он именем султана еще раз объявил, что право жить на Кавказе после войны получат лишь те, «которые восстанут до появления турецких сил; все же прочие будут лишены всех прав и с ними поступят как с завоеванными». Такого рода заявления на фоне складывавшейся тревожной обстановки (снятие укреплений береговой линии, появление в море англо-французских судов, обстрел ими 8 июля 1854 г. Новороссийска и распространение различных слухов) оказали влияние на некоторую часть населения, в том числе и на дворянско-княжескую знать, которая в своем большинстве занимала резко враждебную позицию по отношению к Магомед-Амину за его мероприятия по тфокотлям. Магомед-Амин же, стремясь любой ценой поднять общее восстание против России, значительно ослабил свою ограничительную политику по отношению к знати, преследуя лишь тех князей и дворян, которые упорно оставались верны русскому правительству.
Этот новый поворот в деятельности Магомед-Амина привел к резкому размежеванию в рядах военно-феодальной верхушки. Часть ее решительно стала на сторону Магомед-Амина, рассматривая его как лицо, подчиненное Сефер-бею, и надеясь на скорый переход Кавказа под власть Турции. Другая же осталась верна русскому правительству и не могла забыть те ущемления ее владельческих прав и обид, которые наиб причинил во имя своего союза с тфокотлями. С внешней стороны примирение части знати с Магомед-Амином выразилось в том, что в состав его штаба вошли князь Карбечь Болотоков и сын Сефер-бея Карабатыр.
К прикубанским бжедухам Магомед-Амином было послано особое воззвание. Вслед за этим наиб в сопровождении крупного отряда мутазигов и свиты, в которой находились преданные ему абадзехские старшины, Кара-батыр и князь Карбечь Болотоков, двинулся сам во владения бжедухов и остановился в ауле князя Пшемафа Кончукова. Князь Кончуков, носивший чин подпоручика русской армии, как и многие другие владельцы, охотно принес присягу на верность султану, рассчитывая при первой же перемене обстоятельств так же легко от нее и отказаться.
Несмотря на все усилия, осуществить план общего вооруженного выступления местного населения против России и выделить часть сил на помощь Шамилю Магомед-Амину не удалось, так как основная масса горцев его не поддержала. Адъютант командующего батумской армией майор Осман-бей иронически писал: «Вступая в Сухум, мы с уверенностью полагали быть встреченными и окруженными черкесами. Но эти господа не торопились явиться приветствовать нас, многие из них остались у себя на вершинах своих суровых гор».
Не приходится поэтому удивляться, что Магомед-Амин в ответ на настойчивое требование Шамиля немедленно двигаться через Карачай к Пятигорску благоразумно отвечал, что он этого не может сделать «впредь до получения в подкрепление войск из Турции».
После того как русские войска оставили Геленджик, он стал главным пунктом в северо-восточной части Черноморского побережья, откуда действовали союзное командование и его политическая агентура, ставившие своей задачей поднять массовое движение против России.
В мае 1854 г. английские суда доставили в Геленджик понтонные мосты с обслуживающей их английской командой, которые были предназначены для форсирования р. Кубани.
Овладение вслед за Геленджиком Новороссийском и Анапой мыслилось английским командованием как начало крупных военных операций силами самих кавказских ополченцев. Горцы, однако, к этому времени прекрасно понимали, что конечным итогом победы союзников на Кавказе будет переход его под власть Турции, но эта перспектива очень мало привлекала основную часть трудящегося населения. «...Перспектива присоединения к Турции очень мало их воодушевляет»,— писал Ф. Энгельс о горцах в статье «Непостижимая война».
В половине июня к абадзехам прибыл турецкий паша с двумя иностранными офицерами и от имени союзного командования потребовал; чтобы они выставили в Сухуми на службу в турецкой армии несколько тысяч молодежи. Но абадзехи категорически отказались. Сефер-бей, находившийся в Сухуми, со своей стороны потребовал от Магомед-Амина мобилизации сил мутазигов. Выполняя задание, Магомед-Амин предложил абадзехам выставить от каждых ста саклей по десять всадников, но и его постигла та же неудача. Единственным результатом этих усилий было то, что к Сефер-бею отправился находившийся ранее в свите Магомед-Амина «темиргоевский князь Карбечь Болотоков с немногим числом своих узденей и охотников из абадзехской бездомной молодежи».
Отказав в требовании Сефер-бея, абадзехи вместе с этим стали «сильно не доверять» Магомед-Амину. Они пришли к резонному заключению, что султан и его союзники намерены вести войну против России исключительно за счет «абадзехского и шапсугского населения». Вследствие такой мысли абадзехи хотели совсем отказаться от Магомед-Амина. На вопрос же явившихся к ним английских офицеров, смогут ли они прокормить тридцатитысячную армию союзников, когда она прибудет к ним, абадзехи также ответили отрицательно, и офицеры, проведя топографическую съемку местности по р. Лабе, возвратились в Сухуми.
Магомед-Амину, не перестававшему настаивать на оказании - военной помощи союзникам, пришлось услышать от собранных им депутатов следующее: «...абадзехи, шапсуги и натухайцы отозвались, что из всех мер, какие он доселе предпринимал, они видят одно только для себя разорение. Покровительства Турции им не нужно — они испытали его! Англичане и французы, прибыв в здешний край, наделили их фальшивыми деньгами за доставленные припасы, чего русские никогда не делали, и потому они считают лучшим выжидать, чем окончится начатая война».
В июне Магомед-Амин, находясь в Сухуми, куда он прибыл по настоянию Сефер-бея, еще раз обратился с требованием выставить от каждых ста дворов по пять всадников. Когда же аулы заявили, что сделать этого не могут, то наиб убавил требования до одного человека от ста дворов. Однако «черкесы признали и этот набор, стеснительным и отказались от исполнения...».
Начавшаяся доставка к устью р. Туапсе, где находилось покинутое русскими войсками Вельяминовское укрепление, оружия и амуниции ополчения заставила горцев еще более насторожиться. Узнав, что это ополчение предназначалось для совместных действий с турецкими войсками в Закавказье, они заявили, что никогда не брали на себя обязательства защищать султана, и решительно отвергли предложение штурмовать Тифлис, после взятия которого «все богатства оного и жены должны были быть предоставлены в пользу... вступивших в ополчение».
Тем более непопулярно оказалось предложение союзников, переданное через Магомед-Амина, выставить конные силы для совместных действий в Крыму. У англичан не хватало солдат, и английский штаб хотел получить с Кавказа как можно больший контингент нерегулярной кавалерии, которая так нужна была в Крыму. С этой целью был послан в Черкесию Лонгворт. Французское правительство направило своего делегата Шам-пуассо с такими же инструкциями.
Из сохранившихся документов видно, что горцы отказались выполнять ту роль, которую им отводила европейская политика и к которой их призывал Магомед-Амин. Трудно поэтому согласиться с мнением Е. Д. Фелицына, Ф. А. Щербины и других историков, объяснявших отход Магомед-Амина от политической деятельности в самый напряженный момент развертывавшихся событий тем, что он был обижен турецким правительством, оказавшим предпочтение князю Сефер-бею. Ф. А. Щербина утверждал даже, что пассивность горцев во время Крымской войны порождена бездарностью Сефер-бея и выжидательной позицией, занятой оскорбленным Магомед-. Амином. Истинная причина же заключалась в том, что Магомед-Амин почувствовал свое бессилие поднять народы Западного Кавказа на поддержку Турции, и та драматически горделивая поза несправедливо обиженного вождя демократии, которому мешает действовать поддерживаемый Турцией князь Сефер-бей, принятая им в 1855 г., была не чем иным, как вынужденной бутафорией, прикрывавшей его политический крах. Крах этот становился очевидным и для иностранных наблюдателей-офицеров.
Интересны официальные английские донесения. 4 ноября 1855 г. капитан Мур сообщил контр-адмиралу Лайонсу о наблюдениях относительно положения Магомед-Амина: «Его влияние в стране очевидно ослабло со времени начала войны, в частности на побережье, благодаря оппозиции тех, кто привык к сношениям с русскими, а это большая часть натухайцев, с которыми он сурово обошелся, а также недоброжелательству дворянства, или уорков, которых чрезвычайно не устраивает его система равенства, будто бы предписанная кораном» [9; 390]. Правильно отмечая тягу горского населения к мирным сношениям с русскими и недовольство адыгского дворянства социальной демагогией Магомед-Амина, это донесение не отразило именно того, что потерпела крах вся социальная политика наиба.
Стремление Магомед-Амина мобилизовать все местное население на участие в войне с Россией неизбежно приводило его на путь демагогического противопоставления интересов различных слоев общества. Начав со сближения с дворянско-княжеской знатью, он затем оттолкнул ее от себя во имя привлечения тфокотлей, а впоследствии снова обратился к ней за поддержкой.
В июле 1854 г. в долину р. Кубани была направлена в сопровождении турецкого паши военно-топографическая экспедиция союзников, которой было поручено произвести подробную съемку местности и собрать сведения о природных богатствах края.
Одновременно эта экспедиция должна была выяснить и политические настроения жителей прикубанских аулов, давно уже тесно связанных торговыми отношениями с русскими и постоянно бывавших в Екатеринодаре и казачьих станицах. На вопрос турецкого паши и английских офицеров они прямо заявили: «...до сего времени они жили под покровительством русских и пользовались от них всеми милостями и не несли никакой службы... русские ничем их не притесняли, а напротив защищали еще от их внешних врагов». Такого рода ответ очень не понравился паше. Против Магомед-Амина был выдвинут целый ряд обвинений. Все объяснения его не были приняты во внимание турецким пашой, а привезенные им присяжные листы и подписки объявлены подложными.
Сефер-бей со своей стороны упрекал его в том, что «он обманывал турецкого султана, что он выдавал, себя в письмах за полного хозяина черкесов, а между тем выходит, что он или не хочет дать помощи туркам, или не может, потому что ничего не значит».
Магомед-Амину ничего больше не оставалось делать, как заявить, что для доказательства своей преданности султану он сам лично отправится в Азиатскую Турцию.
Вскоре после этого он отбыл в Константинополь для личных объяснений с правительством султана, заявив перед отъездом, что турки совершили большую стратегическую ошибку, высадив десант и устроив военную базу в Сухуми, а не близ Новороссийска. В Константинополе ему удалось оправдаться в обвинениях, возводимых на него Сефер-беем, но признать за ним по-прежнему роль политического главы народов Западного. Кавказа Порта не согласилась и отвела ему скромную участь исполнителя распоряжений союзного командования.
Сефер-бей также считал действия союзников на Кавказе ошибочными. Принимая в августе 1854 г. в Сухуми депутацию натухайских и шапсугских старшин и уверяя их, что султан возвел его в звание командующего всеми черкесскими ополчениями с правом возведения в звание паши семи человек достойнейших старшин, он изложил им и первоначально намечавшийся план овладения Анапой и Новороссийском. План этот уже мог быть приведен в исполнение, если бы не вмешательство командующего батумской армией Селим-паши, в результате которого турецкое командование отказалось от мысли захватить Новороссийск и Анапу путем смелой десантной операции.
Выполняя новый, урезанный план турецкой агрессии на Кавказе, Сефер-бей получил указание действовать в Абхазии. Находясь в Сухуми, он должен был добиться «склонения абхазской аристократии признать над собою власть Порты».
Контакт с абхазской феодальной аристократией должен был затем позволить связать действия батумского корпуса с действиями ополчений абхазского, убыхского и др.
Подчинившись необходимости, Сефер-бей деятельно взялся за выполнение этой миссии и достиг значительных успехов. Многие абхазские дворяне присягнули на верность султану, выдав в качестве заложников «30 мальчиков из господствующего класса». Но как только Сефер-бей потребовал от шапсугов, абадзехов и натухайцев прислать свои ополчения в Абхазию, так натолкнулся на упорное сопротивление. «Требование милиции в отдаленный край,— доносил вице-адмирал Серебряков,— показалось им началом воинской повинности, предвещающим, что будут брать с них рекрут, а обещание льгот притязанием на подати».
Все это довольно скоро убедило англо-французское командование в полной неспособности турецких пашей поднять горские народы на участие в войне. Придя к такому выводу, оно бесцеремонно поручило командующим английской и французской эскадрами, действовавшими у кавказского побережья, вести переговоры с горцами «от имени своих держав, не упоминая о турках».
В первых числах мая 1854 г. в Геленджик прибыла эскадра, состоявшая из шести военных кораблей союзников. По распоряжению командира эскадры было собрано большое народное собрание, на котором «англичане и французы объявили горцам, что они пришли для освобождения их от зависимости России и с тем, чтобы составить из них народ совершенно свободный и самостоятельный». Старшины отвечали, что хотя они и тяготились зависимостью от России, но начали постепенно с ней сближаться, завели торговлю и увидели в том свою пользу. Далее они указали, что турки не дают им действенной помощи, а только ограничиваются обещаниями. На это английские офицеры заявили, что на прибывших в Геленджик судах нет столько войск, чтобы произвести высадку у Новороссийска, и флот союзников готовится к действиям против Крыма, но что «если горцы желают, то их военные суда немедленно вытеснят русских из Новороссийска с условием, что горцы довершат разгром вытесненного из города гарнизона на суше». К этому предложению старшины также отнеслись отрицательно.
Военные действия на Западном Кавказе в годы Крымской войны
Командование Черноморской береговой линии в начале июня 1854 г. решило совершить военную экспедицию в Геленджик, в бухте которого постоянно находились корабли противника. Турецкие и английские суда доставляли в Геленджик различные товары. Турецкие купцы снова начали вывозить отсюда невольников, которых они покупали тут же на геленджикском базаре, где на разостланных коврах сидели девушки и мальчики, привезенные для продажи, а стоявшие рядом продавцы на все лады расхваливали свой товар. Создавалась своеобразная колониально-экзотическая картина, ярко рисовавшая те перспективы, какие несла Кавказу победа союзной коалиции.
Союзное командование никак не могло предположить, чтобы небольшой новороссийский гарнизон, находившийся в состоянии полублокады, был способен на активные наступательные действия и что русское командование решится на вылазку в сторону Геленджика.
Хотя, как уже было сказано выше, никаких серьезных сил Магомед-Амину собрать не удавалось, но одно его появление в Геленджике явилось бы демонстрацией единства действий мутазигов и союзного командования. В такой обстановке удачный удар русских войск по Геленджику приобретал весьма важное военное значение.
В ночь с 4 на 5 июня командование береговой линии, получив известие о прибытии в Геленджик нескольких иностранных судов, начало проводить намеченную операцию. Под начальством вице-адмирала Серебрякова по берегу моря к Геленджику двинулся русский отряд при четырех горных орудиях. Одновременно по морю под командой лейтенанта Давыдова была направлена «эскадра» из четырех гребных баркасов, команда которых состояла из 117 солдат линейных батальонов и черноморских казаков. Новоиспеченные моряки блестяще справились с задачей, пройдя на веслах по неспокойному морю сорокаверстное расстояние. Путь этого отряда был опасен еще и потому, что в любой момент из-за мыса, лежащего к югу от Геленджика, могли появиться неприятельские крейсеры.
Сухопутный отряд большую часть ночи двигался по очень тяжелой дороге между Новороссийском и оставленным русскими войсками Кабардинским укреплением. Узкая тропинка, по которой с трудом проходила даже горная артиллерия, вилась по прибрежным отрогам хребта, то поднимаясь на них по краям обрывов, то опускаясь в глубокие ущелья. Пройдя сорок верст, к восьми часам утра войска вышли к Геленджику.
Лейтенант Давыдов, благополучно избегнув встречи с неприятельскими крейсерами, к шести часам утра также вошел в Геленджикскую бухту. Построив баркасы в одну линию между обоими ее мысами, он приготовился к атаке. В это время в бухте стояли один большой бриг и четыре вооруженные пушками турецкие кочермы. Команды судов, полагая, что им придется иметь дело только с четырьмя русскими баркасами, приготовились к бою. Они подтянулись ближе к берегу, чтобы быть под прикрытием ружейного огня, и начали стрельбу из орудий. В этот момент на ближайшей возвышенности показался отряд Серебрякова. Батарея горных орудий открыла огонь гранатами по постройкам на берегу бухты. Внезапное появление с тыла русских войск, атака кавалерии и огонь «эскадры» Давыдова парализовали сопротивление турок, которые бросили свои суда и бежали в горы. После этого все суда были взяты русскими солдатами без всякого сопротивления. Несколько английских и французских офицеров тщетно пытались организовать оборону — их никто не слушал.
На бриге было найдено большое количество материй, сукна и других товаров, привезенных для торговли с горцами, стоимость которых Серебряков определил в 50 тысяч рублей серебром. Кочермы также были нагружены тканями, солью и военными припасами. Вследствие отсутствия в русском отряде матросов, которые могли бы поставить паруса и вести захваченные суда в Новороссийск, пришлось их сжечь вместе с грузами. Уничтожив также склады товаров и зерна, находившиеся на берегу Геленджикской бухты, отряд Серебрякова и «эскадра» лейтенанта Давыдова благополучно возвратились в Новороссийск.
Удачная экспедиция Серебрякова вызвала подлинное негодование союзного командования. В Геленджик был прислан английский пароход с группой штабных офицеров, которым поручалось выяснить все подробности и обстоятельства происшедших событий. Офицеры укоряли «горцев за то, что они допустили истребить суда и хлебные запасы». Пострадавшие же владельцы турецких кочерм не преминули пожаловаться англичанам. Геленд-жикская экспедиция сильно подорвала доверие к утверждениям союзников о том, что русские не смеют предпринять в ближайшее время никаких наступательных действий.
Нежелание адыгских народов выполнять роль пушечного мяса во имя интересов английской и турецкой политики заставило союзное командование в 1854 г. отказаться от развертывания серьезных операций. Однако затянувшаяся осада Севастополя и ее общий неудачный для союзников ход побудили их еще раз попытаться поднять горцев на борьбу с русскими. Средством для этого они считали штурм и взятие Новороссийска. Намечая операцию, англо-французское командование рассчитывало, что жители прибрежных аулов, увидя разрушение новороссийских батарей и горящие здания города, выйдут из состояния своей пассивности и атакуют город с суши. Взятие Новороссийска соединенными силами англо-французской эскадры и мутазигского ополчения позволило бы европейской дипломатии громко говорить об осуществлении «освободительной миссии» союзных держав на Кавказе.
Прежде чем начать новороссийскую операцию, союзники постарались обеспечить себе прочный тыл со стороны Кубани. С этой целью 7 и 8 февраля 1855 г. в верховьях р. Псебепс было организовано большое собрание, на котором присутствовали турецкие и английские офицеры, сын Сефер-бея Карабатыр и группа мусульманского духовенства. Совместными усилиями они заставили собрание принять постановление о взимании штрафов со всех горцев, которые не прекращают торговых сношений с русскими и продолжают ездить на базары и меновые дворы. Помимо внесения штрафа каждый из них должен был дополнительно присягнуть, что впредь не будет иметь никаких сношений с русскими.
Специальные патрули, разъезжая по левому берегу р. Кубани, должны были арестовывать заподозренных в намерении пробраться к русским. Поимщики получали за каждого арестованного по 10 рублей и конфискованные товары. Прервав всякие сношения прикубанских народов с Россией, союзники рассчитывали получить большую свободу действий на Черноморском побережье, в районе северной части береговой линии.
Согласно разработанному в штабе союзников плану Магомед-Амину было предложено организовать для нападения на Новороссийск «конный сбор, начиная от Кара-чая до Псекупса». Часть собранных сил должна была занять Бакан и другие ущелья в окрестностях Новороссийска, чтобы взять крепость в полную блокаду. Группа английских офицеров произвела осмотр Новороссийска с высот Маркотхского перевала.
Однако все усилия союзников заставить горцев, живших на территории, прилегающей к Новороссийску и Анапе, принять участие в военных действиях, окончились полной неудачей. На предложение штурмовать Новороссийск они ответили, что «до прихода Магомет Эмина натухайцы имели еще в руках какие-нибудь средства, но двухкратный сбор этим наибом поголовных штрафов, потом притеснения, не столько от русских, как от него, совершенно обнищили край, и теперь натухайцы ни туркам, ни союзникам их ничем не могут пособить». Это заявление произвело на представителей союзного командования очень неприятное впечатление, и, как сообщалось в донесении, «при этих словах англо-французы призадумались и сказали, что об этом отзыве будет написано в Константинополь».
Действительно, союзному командованию было над чем призадуматься, но тем не менее оно решило все же попытаться овладеть Новороссийском. Приступая к этой операции, английские десанты с целью отвлечения русских сил сожгли все постройки на Бугазском гирле и разрушили Джеметейское укрепление близ Анапы. Вместе с этим в Геленджик из штаба союзных войск был послан офицер, который должен был сообщить намеченный план действий шапсугским старшинам и потребовать их содействия. Совещание старшин происходило на берегу Геленджикской бухты, и здесь офицер, имя которого, к сожалению, осталось неизвестным, уверил собравшихся в неизбежном взятии Новороссийска и выдвинул требования союзников, чтобы они немедленно оказали самую решительную поддержку союзному десанту.
8(20) января 1855 г. два неприятельских паровых судна, подняв парламентерские флаги, подошли к Новороссийску и спустили на воду шлюпку. Подъехавший на ней французский офицер передал на имя коменданта крепости пакет, в котором заключалось извещение о начале с 1 февраля 1855 г. блокады союзным флотом Новороссийска и Анапы. Это было осуществление декларации лондонского адмиралтейства (о ней говорил К. Маркс в своей статье «Четыре пункта»), гласившей, что французский и английский адмиралы в Черном море получили приказ распространить блокаду, установленную, под устьями Дуная, на все гавани Черного и Азовского морей с 1 февраля 1855 г.
28 февраля (12 марта) рано утром на взморье у Новороссийска появилась неприятельская эскадра, состоявшая из пяти паровых судов. Войдя в Новороссийскую бухту, они построились в боевую линию и открыли орудийный огонь по городу. Предельная дальность огня русских орудий равнялась тысяче сажен. Произведя несколько безрезультатных выстрелов усиленными зарядами, батарея умолкла. Город оказался совершенно беззащитным. Неприятельские корабли своим огнем беспрепятственно разрушали дома и крепостные постройки. Генерал-майор Дебу, принявший общее командование в крепости, решил вывести за город всех жителей и раненых солдат. Опасаясь штурма Новороссийска соединенными силами мутазигов и десантных войск союзников, он дал знать в Анапу, прося о поддержке. Одновременно с этим он приказал оставить Константиновское укрепление и гарнизону его отойти в Новороссийск. Для прикрытия отхода гарнизона Константиновского укрепления был послан Анапский горский полуэскадрон. Всадники полуэскадрона смело атаковали в конном строю отряд Магомед-Амина, который действовал на восточном берегу Новороссийской бухты, и опрокинули его. Соединившись затем с русской пехотой, вышедшей из укрепления, полуэскадрон с боем отошел к Новороссийску. Ожесточенная бомбардировка города продолжалась до наступления сумерек. Ночью противник несколько раз возобновлял огонь, «но промежуточно и слабо».
Утром 1(13) марта союзное командование, считая молчание крепостных батарей признаком того, что они подавлены, подтянуло к берегу свои суда. Этого момента только и ожидали артиллеристы крепости. Они немедленно открыли сосредоточенный огонь по неприятельскому флоту. Началась упорная с обеих сторон канонада. Русские артиллеристы обнаружили в этом бою исключительно высокие боевые качества. Располагая десятью устарелыми орудиями, они сумели нанести серьезные повреждения судам противника, имевшим на борту мощное артиллерийское вооружение новейшего для того времени образца.
Наскоро исправив полученные повреждения, неприятельская эскадра снова подошла к приморской батарее и осыпала ее ядрами, картечью и бомбами. Однако и эта бомбардировка не сломила духа защитников Новороссийска, и артиллерия крепости продолжала вести ответный огонь по кораблям противника, нанося им новые повреждения. В два часа дня англо-французское командование вынуждено было вывести свои корабли из-под огня крепостных орудий и, отойдя в глубь бухты, вести огонь с прежней дистанции.
Понеся большие потери в личном составе команд и получив серьезные повреждения судов, союзники попытались бросить на штурм Новороссийска отряды мутазигов, которые собрались в большом количестве на противоположном берегу Новороссийской бухты. Один из паровых фрегатов, отделившись от эскадры, под выстрелами батареи подошел к берегу выше Константиновского укрепления и спустил шлюпку. После переговоров с горцами пароход спустился ниже по бухте и, дав несколько выстрелов, присоединился к эскадре. До этого с эскадры посылались шлюпки и за мыс Хак.
Как выяснилось впоследствии, англичане и французы, убеждая мутазигов атаковать Новороссийск со стороны суши, предлагали выделить им даже одно орудие, но те категорически отказались. В результате длительных переговоров ни к каким серьезным действиям англо-французскому командованию побудить мутазигов не удалось.
В ночь на 2 марта противник прекратил бомбардировку и занялся ремонтом пострадавших судов. Утром командир эскадры сделал еще одну попытку уговорить продолжавших оставаться на берегу мутазигов атаковать Новороссийск. Посланный им офицер в парадном мундире подъехал в шлюпке к берегу и, не выходя из нее, закричал в рупор на турецком языке: «Кто вы? Мусульмане или гяуры? Если мусульмане, то должны собраться в больших силах и во что бы то ни стало не выпустить ни души из Новороссийска!». Потом он стал уверять, что русские подавлены бомбардировкой и ничто не помешает ворваться в город. Но и на этот раз мутазиги остались равнодушны.
Около полудня 2 марта по Новороссийску были даны последние выстрелы, и, истощив запас снарядов, неприятельская эскадра прекратила бомбардировку. 3 марта, произведя на рейде неотложные исправления сильно пострадавших судов, она вышла в море. Один из паровых фрегатов, у которого русские снаряды разрушили машинное отделение, потерял способность двигаться и был взят на буксир.
Таким образом, попытка англо-французского командования овладеть Новороссийском окончилась неудачей. Ее обусловили героическое сопротивление гарнизона, хорошая подготовка войск и отказ горских народов поддержать союзников. Поведение ополченцев здесь показало также и несостоятельность утверждения Магомед-Амина, который заявлял, что если бы союзники начали боевые действия у Новороссийска и Анапы, то горцы охотно бы выставили войска для борьбы с русскими.
Гражданское население Новороссийска также приняло участие в обороне города: из добровольцев-горожан была сформирована сводно-учебная команда численностью 283 человека.
Поражение союзной эскадры под Новороссийском было весьма неприятной неожиданностью для англофранцузского командования.
На фоне общего неудачного хода Крымской войны оно явилось отрадным событием, обрадовавшим правительственные сферы России. По «высочайшему» распоряжению, полученному из Петербурга, всем нижним чинам новороссийского гарнизона было выдано в качестве награды по 1 рублю за участие «в мужественном отражении неприятельского нападения на крепость Новороссийск». К орденам были представлены 6 офицеров и 23 солдата.
После неудачного исхода штурма Новороссийска союзное командование, окончательно разуверившись в возможностях Магомед-Амина поднять горские народы на борьбу с русскими, обратилось к сыну Сефер-бея Карабатыру. Командир эскадры Джиффард, стремясь выправить создавшееся положение, которое грозило серьезным упадком военного престижа союзников в глазах местного населения, прибыл в Геленджик и вызвал к себе Карабатыра, однако тот, прекрасно понимая, с какой целью его приглашают и насколько трудно будет выполнить предъявленные к нему требования, не поехал, дипломатически «отозвавшись, что занят делами». Правда, вместе с этим он просил письменно уведомить его о дальнейших намерениях союзников. В ответ ему было сообщено, что «через пять дней возобновится бомбардирование Новороссийска и что к тому времени горцы должны собраться и под начальством Карабатыра отрезать отступление гарнизону Новороссийска, бомбардировать который предполагалось четыре дня».
Карабатыр в указанный срок отправил гонцов в Геленджик узнать, прибыла ли туда эскадра и каковы ее силы. Командир специально присланного английского крейсера принял гонца и передал с ним письмо Карабатыру, в котором писал, что уполномочен высшим союзным командованием известить его о том, что эскадра временно отозвана в Севастополь, но через восемь дней она вернется обратно с десантом, привезенным из Балаклавы. Осада города будет вестись с суши и с моря, «для чего англо-французы предполагают устроить против сухопутной части города батарею в 80 орудий, которая уже совсем снаряжена в Балаклаве».
Трудно сказать, наколько серьезны были намерения союзников немедленно начать новый штурм Новороссийска, но сам факт посылки английского крейсера для связи с Карабатыром и приказание, отданное ему («быть наготове и озаботиться пригоном в Геленджик скота на продовольствие десанта»), заставляют думать, что такие намерения действительно имели место, но были временно отложены до овладения Керчью.
Карабатыр, фигуру которого все больше и больше выдвигали на первый план союзники и Турция, вскоре получил из Константинополя распоряжение привести все население Западного Кавказа к официальной присяге на верность турецкому правительству. К нему прибыл специальный уполномоченный Порты — некий «Хаджи-Смаил», действовавший весьма решительно.
После отражения попытки союзников овладеть Новороссийском можно было опасаться их нападений и в других пунктах северной части береговой линии. Такими пунктами могли быть в первую очередь побережье Таманского полуострова и Анапа.
С середины 1855 г. неприятельские суда, осуществляя намеченный план блокады, начали крейсировать у берегов Таманского полуострова. С большим трудом удавалось поддерживать регулярное сообщение между Таманью и Крымом с помощью казачьих лодок.
12(24) мая 1855 г. англо-французское командование приступило к серьезным операциям в Керченском проливе. Неприятельский флот в составе 50 паровых и 25 парусных судов вошел в пролив и открыл огонь по батареям, защищавшим Керчь. К вечеру ему удалось подавить их сопротивление, и 13(25) мая англо-французские войска заняли город. В тот же день 22 неприятельских корабля приблизились к батарее, расположенной на косе Чушка, продолжавшей еще вести огонь, и начали ее обстреливать. Вслед за этим противник попытался отрезать пути отступления батарее.
Командир батареи сотник Майборода, заклепав под обстрелом неприятельских судов тяжелые орудия, попытался вывезти легкие пушки, но осуществить ему это не удалось. Закопав их в песок, он спешно отступил в глубь полуострова.
Уничтожение батареи на косе Чушка должно было явиться началом операций союзных войск на Черноморском побережье Кавказа. 2 июня 1855 г. контр-адмирал Лайонс писал адмиралтейству, что «британские и французские силы... после операций в Керчи и Еникале готовы предпринять атаку Анапы, с тем чтобы изгнать врага из его последнего оплота на черкесском берегу».
Для широкого оповещения о взятии Керчи Лайонсом был послан специальный корабль под командованием капитана Мура, который «посетил различные пункты на побережье вплоть до Сухум-Кале».
Для того чтобы побудить горцев к решительным действиям, капитан Мур передал Сефер-бею прокламацию, призывавшую их «подняться и дополнить успех союзников участием в нарушении русских коммуникаций во всех направлениях».
Овладение противником Керченским проливом вынудило русское командование оставить Новороссийск, а затем и Анапу. Первым был оставлен 15 (27) мая 1855 г. Новороссийск.
Взорвав укрепления и уничтожив огнем уцелевшие здания и имущество, новороссийский гарнизон отошел к Анапе.
Вице-адмирал Серебряков, покинув 25 мая (6 июня) Анапу, с войсками ее гарнизона двинулся к Темрюку. В дороге на следующий день он получил известие, которого крайне опасался, а именно, что к Темрюку подошла англофранцузская эскадра с баркасами для высадки десанта. Для отступавшего анапского гарнизона создавалось катастрофическое положение.
Напрягая силы, форсированным маршем, пройдя за одни сутки более 70 верст, анапский гарнизон успел выйти 8 июня к Темрюку. Здесь войска заняли позицию на дороге к Андреевскому посту, откуда они могли действовать и в направлении Курчанского лимана, если бы противник попытался атаковать крепость с противоположной стороны. На взморье у Темрюка находилась англо-французская эскадра в составе 18 паровых судов, с большим количеством баркасов и лодок, предназначенных для высадки десанта. Однако, получив сообщение, что Анапа оставлена и что гарнизон ее ускользнул из ловушки и соединился с Таманским отрядом в Темрюке, командующий союзной эскадрой не решился начать сражение.
После того как Анапа была покинута русскими войсками, в нее вошел Сефер-бей с отрядом и вслед за ним отряд турок численностью в 8 тысяч человек под командой Му-стафа-паши.
Занятие Анапы турками сопровождалось довольно серьезными трениями между Мустафа-пашой и контр-адмиралом Стюартом, командиром союзной эскадры, вскоре подошедшей к Анапе. Английский адмирал потребовал, чтобы Анапа была превращена в базу союзных войск и в ней была допущена свободная торговля англичан с горцами. Свои требования он обосновывал тем, что «русские оставили Анапу по причине угрожавшей им опасности со стороны союзного флота». На это Мустафа-паша ответил, что так как Цемесская бухта и Анапа всегда принадлежали Турции, то без разрешения султана он эти требования выполнить не может. Точно так же он категорически отказался пропустить группу английских офицеров из Анапы к Магомед-Амину, находившемуся у абадзехов. Поскольку политический авторитет Магомед-Амина очень сильно пал и турецкое правительство делало теперь основную ставку на представителя адыгской аристократии — Се-фер-бея, то паша позволил себе даже следующее замечание: «Магомет Эмин, человек, не принадлежащий адыгейским племенам, забрел к абадзехам из Чечни, и он, Му-стафа, не решится дозволить своим союзникам, без воли султана, иметь сношения с человеком чуждым». В заключение не без иронии Мустафа-паша предложил адмиралу: уж если он так настаивает, то пусть пошлет своих офицеров к Магомед-Амину через Чечню, откуда появился и сам Магомед-Амин! Вызывающее поведение турецкого генерала объяснялось тем, что он не обольщался относительно истинных намерений англичан на Западном Кавказе и, подчеркивая роль отведенную Турцией князю Сефер-бею, в то же время давал понять, что Порта не потерпит самостоятельной ставки Англии на развертывание деятельности Магомед-Амина.
После этого Мустафа-паша собрал старшин и заявил им, что, не сомневаясь в преданности горцев турецкому султану, он намерен двинуться на Кубань, основать свой лагерь на ее левом берегу против Екатеринодара, поднять знамя священной войны и призвать всех присоединиться к его войскам. Майор Осман-бей, во многом очень трезво оценивавший политическую обстановку на Кавказе, замечает по этому поводу: «Потеряв два года (1853 и 1854), Порта наконец решилась приняться серьезно за черкесский вопрос, приступив к осуществлению обширного проекта, который должен был изменить будущность черкесской страны и независимость ее жителей. Без сомнения, независимость должна была остаться одною иллюзиею, так как Турция не строила проектов ради прекрасных черкесских свойств, но ввидах своей собственной пользы». Однако на этом пути Порта неизбежно должна была столкнуться с Англией.
В документах встречается ряд указаний на расхождения по вопросу о политическом будущем Западного Кавказа, обнаружившиеся между союзниками. Адмирал Стюарт сообщает, что когда после занятия Анапы прибывший туда Сефер-бей обратился к нему с просьбой помочь восстановить ее укрепления, то он дал ему понять, что не может сделать это и что это было бы «неполитично».
Столкновение между Мустафа-пашой и английским адмиралом также получило широкую огласку среди горцев и еще больше укрепило их нежелание вмешиваться в происходящие события.
Несмотря на все усилия протурецки настроенных натухайских старшин, попытки заставить соплеменников поднять оружие на стороне Турции против России успехом не увенчались. Прибывшие в Анапу по вызову Мустафа-паши депутаты с плохо скрытой насмешкой заявили, что после спора Мустафа-паши с союзным генералом и «сами теперь не знают, кому они могут принадлежать», а идти с войсками к Мустафе со знаменем для присоединения к войскам турецким «они считают неуместным».
Рассерженный Мустафа-паша, оставив в Анапе Сефер-бея, выехал в Сухуми.
После его отъезда находившийся в Анапе небольшой отряд союзных войск, погрузив на корабли скот и сено и взорвав, несмотря на протесты Сефер-бея, в некоторых местах крепостные укрепления, также покинул город. Взрывом укреплений союзники, видимо, стремились надолго лишить Анапу ее военного значения и держать Сефер-бея под своим постоянным контролем.
Все лето 1855 г. противник у побережья Таманского полуострова ограничивался действиями небольших разведочных групп, но со второй половины сентября англофранцузские войска перешли здесь к довольно крупным операциям, которые были связаны с отмеченным уже выше стремлением союзников ускорить окончание войны и облегчить положение турецких войск в Азиатской Турции, где решалась судьба Карса. Союзное командование, несмотря ни на что, упорно не оставляло мысли заставить адыгов напасть на укрепления кордонной линии и захватить Екатеринодар. Это должно было серьезно отразиться на общем ходе войны.
В течение лета английские офицеры неоднократно приезжали к Магомед-Амину и Сефер-бею, настаивая на скорейшем развертывании ими военных действий против русских. Сефер-бею, в частности, англичане предлагали создать регулярные конные части, содержание которых будет производиться за счет расходов, идущих на английскую армию.
Выполняя поручение союзников, Сефер-бей выделил из войск анапского гарнизона два батальона турецкой пехоты с пятью орудиями и направил этот отряд под начальством Карабатыра на Кубань. Карабатыр должен был обстрелять посты и укрепления кордонной линии, собрать мутазигов и овладеть Екатеринодаром. Если переправиться через Кубань силам Карабатыра не удастся, то предполагалось взять хотя бы одно из русских укреплений. Подобными действиями Сефер-бей и союзное командование надеялись вывести горцев из состояния политической пассивности, столь неожиданной и опасной для союзных держав в момент их решающей борьбы с Россией за Кавказ.
Для того чтобы понять характер дальнейшего хода событий, необходимо напомнить, что борьба тфокотлей «аристократических племен» со своей дворянско-княже-ской знатью с началом Крымской войны не прекратилась, точно так же, как не исчезли и надежды старого дворянства «демократических племен» на реставрацию былого положения.
Прибытие в Анапу Сефер-бея, облеченного полномочиями от турецкого правительства, вдохновило надежды дворянства, и оно готово было оказать всемерную поддержку. Однако даже и Сефер-бей, несмотря на его откровенно аристократические симпатии, не мог не учитывать фактическое соотношение общественных сил у адыгов и, понимая, что без опоры на тфокотлей ему не удастся удержаться у власти и выполнить требования союзников, вынужден был официально заявить об отказе поддержать притязания дворянства. Вместе с этим он внушал близким к нему представителям старой аристократии мысль о скорой перемене обстоятельств на Кавказе под властью султана.
Натухайские тфокотли зорко, однако, следили за тем, чтобы их снова не сделали игрушкой в руках союзников во имя торжества англо-турецкой политики. Сказалось это. необычайно быстро. Когда Сефер-бей после отъезда из Анапы Мустафа-паши под нажимом союзного командования, вернувшего в Анапу свои войска, вынужден был поставить вопрос об уступке части города под их размещение, то «...народ, которому об этом было объявлено, высказал, что если англичане и французы займут Анапу, то они будут действовать противу их, как противу врагов своих, и что они даже предпочитают англичанам соседство русских». Такое положение связывало Сефер-бея: он не мог не считаться с настроением широких масс натухайцев и находил поддержку лишь среди князей и дворян турецкой ориентации. В решительном отказе горцев поддержать действия союзников и следует, искать разгадку провала фанагорийской экспедиции, организованной в сентябре 1855 г.
Начав операции на Таманском полуострове, англофранцузское командование стремилось создать угрозу кордонной линии и тем самым облегчить дворянам, шедшим за Сефер-беем, действия в нижнем и среднем течении р. Кубани.
Суда союзных эскадр в это же время вели усиленное крейсерство по берегам Азовского моря и, произведя бомбардировку Ейска, высадили в нем небольшой десант, который имел демонстративно-тактическое значение и после короткого пребывания в городе оставил его, Такое же значение имели и удары, нанесенные союзным флотом по Мариуполю и Таганрогу.
Утром 11 (23) сентября вблизи Темрюка, у Голубицких хуторов, появился неприятельский пароход. Остановившись на якоре, он открыл огонь по хуторам, а затем спустил баркас с вооруженными матросами. Однако в тот момент, когда подходил к берегу, сидевшие в засаде пластуны начали обстрел. Один матрос был убит, четверо ранены. Тогда от неприятельского корабля отправилось еще три баркаса с матросами. Огонь пластунов был поддержан выстрелами двух полевых орудий из-за укрытия, и вражеское судно, получив повреждения, подняло на борт баркасы и отошло к гирлу Курчанского лимана. Вечером сюда стали подходить другие суда неприятельской эскадры, и к утру 12 (24) сентября на взморье находилось, уже пятнадцать кораблей.
Одновременно утром 12 (24) сентября близ Тамани началась высадка английских и французских войск, которые заняли упраздненную крепость Фанагорию и закрепились в ней. Десант состоял из 6 тысяч пехотинцев и нескольких артиллерийских батарей. Передовые части русских войск, уничтожив огнем прилегающие постройки и продовольственные склады, отошли и закрепились на ближайшей возвышенности.
По хуторам были посланы нарочные для оповещения о начавшемся вторжении неприятеля. Из Темрюка для прикрытия устья Кубани выступил отряд в составе трех конных казачьих полков и двух пехотных батальонов.
Сражение с высадившимися англо-французскими войсками решено было дать на позиции у Темрюка.
Вскоре русскому командованию стали ясны дальнейшие намерения противника. Войдя в контакт с Сефер-беем, англо-французские войска совместно с собранными им силами мутазигов готовились атаковать Темрюк. С этой целью войскам Сефер-бея предстояло переправиться через Кубань у Джигинской батареи и соединиться с союзниками на Таманском полуострове. Второй отряд под командой сына Сефер-бея Карабатыра выделялся для овладения Варениковским укреплением, находившимся в тылу Темрюкской позиции. Одновременно англо-французский флот должен был начать бомбардировку прибрежных пунктов близ Темрюка и высадить еще один десант в его окрестностях. Падение Темрюка открыло бы неприятельскому флоту вход в устье р. Кубани, после чего союзники могли легко продвинуться вверх по ее течению. Под действием огня их артиллерии слабые укрепления кордонной линии должны были пасть, а взятие же хотя бы некоторых из них, как надеялось союзное командование, явилось бы сигналом к общему наступлению закубанских ополчений мутазигов. Рисовавшееся в результате этого овладение главным военно-административным центром Черномо-рии — г. Екатеринодаром после потери Россией Новороссийска и Анапы могло иметь весьма серьезные последствия. Если бы данный план осуществился, то русскому командованию пришлось бы спешно оттягивать войска на линию Кубани, что сильно затормозило бы их операции в Закавказье.
Турция настаивала перед союзниками на переброске из Крыма 25—30 тысяч английских и французских войск на побережье Кавказа. Прорыв кордонной линии и хотя бы временный захват Сефер-беем Екатеринодара могли значительно улучшить положение турецкой армии на азиатском фронте войны.
Одновременно с занятием Фанагории противник сделал попытку высадить вторую десантную группу в непосредственной близости от Темрюка.
12 (24) сентября 1855 г. двадцать баркасов, спущенных с кораблей англо-французской эскадры, стоявшей на рейде у Темрюка, вошли в Курчанский лиман и начали производить промеры. Здесь они были обстреляны артиллерийским огнем из орудий, поставленных у поселка за темрюкским мостом. Так как корабли эскадры в силу мелководья не могли войти в лиман и поддержать их своим огнем, гребные катера и баркасы противника вынуждены были удалиться. Оставив у гирла лимана один корабль, вся остальная эскадра в составе четырнадцати судов отправилась на запад вдоль побережья и подошла к Голубиц-ким хуторам. Став на якорь, она открыла трехчасовую бомбардировку хуторов, после чего союзное командование предприняло попытку высадить десант, который, однако, встретил ожесточенное сопротивление. В траншеях, вырытых на берегу моря, засели пластуны. Метким огнем и стрельбой из четырех орудий они отбили первый натиск противника и удержались до подхода подкрепления. В результате развернувшегося упорного сражения неприятель был отброшен.
В четыре часа пополудни неприятельские корабли прекратили огонь. Два первых судна отделились от эскадры и направились к Пересыпской станции. Здесь к ним присоединились еще два парохода. Оттеснив огнем своих орудий пограничную заставу, они высадили на берег матросов, которые сожгли пересыпский мост и постройки станции. С заходом солнца пять неприятельских судов ушли в море, восемь же продолжали оставаться у Голубицких хуторов.
Сражение у Голубицких хуторов закончилось полной неудачей для союзного командования. Неоднократно повторявшиеся в течение дня под прикрытием мощного артиллерийского огня попытки высадить десант говорят о том, что англо-французские войска серьезно стремились закрепиться на побережье у Темрюка.
Высадив относительно крупные силы на Таманском полуострове (6 тысяч человек с артиллерией) и заняв крепость Фанагорию, англо-французское командование выжидало выполнения Сефер-беем намеченного плана действий.
15 (27) сентября 1855 г. Сефер-бей должен был переправиться с боем на правый берег р. Кубани. К этому времени его силы состояли из 7 тысяч всадников, собранных стараниями дворян и князей протурецкой ориентации, и отряда турецкой пехоты. Из числа горских всадников 3 тысячи человек он выделил в особый отряд, поручив команду над ним Карабатыру, а остальными и турками занял позицию на левом берегу Кубани, против Джигйнской батареи: Здесь на возвышенности он установил два артиллерийских орудия и под прикрытием их огня с отрядом пытался переправиться на правый берег.
Сражение продолжалось более двух часов, но Сефер-бей не смог добиться успеха, даже пожертвовав двумя батальонами турецкой пехоты, которые он бросил на штурм русских позиций.
Одновременно войска Карабатыра подошли к Варениковскому укреплению.
Пехота Карабатыра, наступая с трех сторон, пыталась им овладеть. Однако гарнизон отразил это нападение. Несмотря на серьезные потери, нападавшие в продолжение ночи еще несколько раз бросались на штурм. Утром 21 сентября (3 октября) они еще раз атаковали уже выбившийся из сил гарнизон, но снова неудачно. Комендант крепости майор Чирг прибегнул к неожиданному для осаждающих приему. Перед новой атакой он скрытно расположил за укреплением пластунские цепи, которые встретил атакующих залпами еще на подступах к крепостному рву и обратили их в бегство. После отражения этой последней атаки Карабатыр отошел вверх по течению р. Кубани.
Таким образом, в результате неудачного исхода действий войск Сефер-бея план союзного командования был сорван. Это дало возможность Таманскому отряду перейти в наступление против англо-французского десанта, находившегося в Фанагорийской крепости, где союзные вой ска выжидали, чем кончится предприятие Сефер-бея, чтобы затем, в случае его успеха, занять Темрюк и создать в нем базу для своих действий.
В течение двух недель, прошедших со времени захвата Фанагории, они ограничивались тем, что посылали небольшие отряды для поджога хуторов и уничтожения запасов сена. 15 (27) сентября им удалось совершенно сжечь полуразрушенную Тамань. Для борьбы с этими вылазками и в качестве заслона со стороны Темрюка русское командование, смогло выделить лишь один отряд пластунов численностью 240 человек. Все остальные войска были сосредоточены на Темрюкской позиции.
20 сентября (2 октября) 1855 г. полковник Бабич развернул военные действия против Фанагории. Он приказал зажечь большое количество костров. Данный маневр должен был создать впечатление, что к русским войскам подошли крупные подкрепления. Атака пластунами Фанагории предполагалась ночью одновременно с трех сторон «с тем, чтобы они, пользуясь темнотой ночи, подползли как можно ближе ко рву Фанагории и со словом «ура» открыли ружейный огонь».
Намеченный план действий был выполнен. Около двух часов ночи пластуны незаметно подползли ко рву Фанагории и открыли ружейную стрельбу. Такая активность русских войск явилась, по-видимому, полной неожиданностью для англо-французского командования. С валов крепости начался ответный ружейный и артиллерийский огонь. С керченского рейда подошла стоявшая там союзная эскадра, которая также открыла ожесточенную канонаду.
Бабич не ставил своей задачей с теми сравнительно небольшими силами, какие находились в его распоряжении, овладеть Фанагорией (численность союзного десанта в ней еще более возросла после неудачной попытки, высадить вторую десантную группу у Темрюка). Вот почему пластуны, выполнив возложенное на них поручение, по сигналу прекратили атаку крепости. С наступлением рассвета англо-французское командование начало эвакуацию войск.
К этому времени для союзников уже совершенно ясен стал полный провал попытки Сефер-бея поднять движение закубанских народов против России, к тому же они получили известие о поражении собранных им сил у Джигинской батареи и Варениковского укрепления. После этого им приходилось думать лишь о благополучном выводе своих войск с Таманского полуострова.
Последним крупным военным эпизодом, имевшим место на Кубани в 1855 г., было организованное Сефер-беем нападение отряда мутазигов на Екатеринодар.
Ворвавшись в ночь с 28 на 29 декабря в город, они заняли прилегающие к р. Кубани кварталы, но затем были оттуда выбиты с большими потерями.
Отброшенный от Екатеринодара, Сефер-бей в первых числах января 1856 г. попытался еще раз вторгнуться в Черноморию через кордонную линию. С отрядом в 3 тысячи человек, с четырьмя орудиями он вышел к участку между Копылом и Ольгинским, постом. Однако движение русских войск к Джигинской переправе, откуда они могли угрожать Анапе, заставило Сефер-бея отойти назад.
После этого он направился во владения шапсугов, поселился в ауле на р. Бугундыр и продолжал призывать горцев к войне с Россией. Войска союзников за время короткого пребывания на Таманском полуострове, а также и их суда, крейсировавшие у побережья Азовского моря, нанесли существенный ущерб экономике края: были сожжены 72 рыболовных завода, уничтожены огромные запасы сена, пострадало большое число жилых и хозяйственных построек. Уходя с Тамани, войска противника окончательно ее разрушили.
Итак, ставка союзного командования как на Магомед-Амина, так и на Сефер-бея к концу 1855 г. оказалась полностью битой. Причем причины этого обстоятельства явились для него крайней неожиданностью.
По существу события 1854—1855 гг. на Западном Кавказе были серьезнейшим политическим и военно-стратегическим поражением Англии и Турции на данном участке фронта Крымской войны. Понятно, почему Сефер-бей, оправдывая собственное бессилие, горько упрекал Магомед-Амина за «невстречу в туземцах того единодушного содействия к войне, какого ожидала Оттоманская Порта по письмам наиба»; не встретили такого «содействия» и англо-французы, прибыв к здешним берегам.
Однако на описанных событиях военно- политические происки Турции и ее европейских союзников не окончились.
Магомед-Амин вскоре после возвращения из Константинополя, куда он ездил для оправдания в глазах турецкого правительства, временно отстранился от политической деятельности.
Объясняя свою пассивность абадзехским старшинам, которые всегда служили его главной опорой, он говорил, что его предшествующая деятельность направлена была на подготовку горцев к переходу под власть Турции, а так как теперь эта цель достигнута, то он считает свое дело оконченным и должен передать горцев другим начальникам, назначенным от Порты.
Однако уже в конце лета 1855 г. Магомед-Амин стал снова принимать участие в происходивших событиях. Сначала он со своими мутазигами направился в Кара-чай. Здесь в августе 1855 г. он разбил небольшой русский отряд и захватил транспорт с продовольствием, но в начале сентября генерал Козловский нанес ему сильное поражение и вынудил уйти из Карачая.
Неудачи князя Сефер-бея заставили правительство Порты и союзников снова обратить взоры на Магомед-Амина.
В конце 1855 г. командующий турецкими войсками в Сухуми Омер-паша вызвал к себе Магомед-Амина и от имени турецкого правительства утвердил его в звании «начальника абадзехов», торжественно возложив на него эполеты паши. Правда, одновременно такие же эполеты были посланы и Сефер-бею, но несомненно, что турецкое правительство в этот момент опять делало главную ставку на Магомед-Амина с признанием его также «начальником» шапсугов и натухаицев, в удостоверение чего ему был выдан соответствующий документ самим турецким султаном.
Перед Магомед-Амином было поставлено категорическое требование во что бы то ни стало еще раз попытаться собрать мутазигское ополчение и двинуть его в Закавказье для совместных действий с турецкой армией. Это были дни, решавшие судьбу осажденного русскими войсками Карса и судьбу кампании в Азиатской Турции вообще. На этом фоне становится понятной попытка Турции и союзников, несмотря на провал фанагорийской экспедиции, еще раз поднять народы Западного Кавказа.
Магомед-Амин сумел подавить в себе чувство личной обиды за оказанное ранее Сефер-бею предпочтение и деятельно приступил к выполнению возложенной на него задачи. Помимо прежних уверений горцев, что «Порта за их свободу подняла оружие на Россию», и обещания платить, каждому «поступающему в пехоту 10 рублей и поступающему со своим исправным конем в кавалерию по 20 рублей в месяц», он пустил в ход смелое средство. Оно заклюг чалось в том, что Магомед-Амин, понимая решающее значение в войне адыгского крестьянства, решил добиться-его поддержки, пожертвовав всеми привилегиями дворянско-княжеской знати.
До осени 1855 г. он еще пытался балансировать между враждебными друг другу социальными слоями адыгских народов, но его тайное покровительство князьям и дворянам, как было отмечено выше, вызвало большое недовольство среди бжедухских тфокотлей, и они отказались ему повиноваться.
Таким образом, перед Магомед-Амином другого выхода не было. Во имя победы союзной коалиции приходилось класть последний козырь на чашу весов истории, и он решился на это: старинные права дворян и князей объявил противными корану и торжественно потребовал, чтобы они принесли присягу в добровольном отказе от их прав. Бжедухские князья и дворяне ответили вооруженным сопротивлением, и Магомед-Амин пустил в ход силу. Несколько дворян были убиты, многие бежали в Черно-морию, остальные были вынуждены подчиниться.
Но и Сефер-бей ревниво стремился сохранить свою власть над шапсугами и натухайцами, а Порта, несмотря на явно оказываемое ею в данное время предпочтение Магомед-Амину, не запрещала ему делать это. Такая двойственность в отношении к собственным агентам со стороны Турции делала их антагонистами, и положение дел ухудшилось еще тем, что общество и без того было раздираемо двумя противодействующими партиями «благородных» и «зависимых». Как писал Осман-бей, в Константинополе «этого не поняли, и вместо того чтобы выбором одного устранить другого и тем, по крайней мере, дать возможность одному лицу беспрепятственно и самостоятельно вести дела, Порта поддерживала и награждала обоих. Это то же, что сказать: я вам даю равные права для большей возможности между собой сражаться». И действительно, дело дошло до того, что когда Магомед-Амин призвал шапсугов и натухайцев поддержать подготовленное им нападение на кордонную линию в районе станицы Ста-рокорсунской, то Сефер-бей решительно воспротивился. Обиженное Магомед-Амином дворянство стало смотреть на Сефер-бея как на своего избавителя и оказывать ему энергичную поддержку. Когда же Магомед-Амин убедился, что бжедухские тфокотли, вполне удовлетворенные ущемлением прав князей и дворян, все же упорно не желают идти под знамена султана, то он стал обвинять в этом князей и дворян, связанных с Сефер-беем. В отправленном им в январе 1856 г. письме к Омер-паше он прямо заявил, что «...готов был немедленно прибыть к нему с десятью тысячами всадников для действий в Закавказском крае или Малой Азии, но для этого нужно повесить около 150 горцев, противящихся всем его распоряжениям для пользы падишаха».
Содержание письма стало известно тем князьям и дворянам, которым он угрожал смертью, и они подняли против него восстание. Для Магомед-Амина возникла серьезная опасность. Не останавливаясь на всех перипетиях развернувшейся борьбы, заметим, что Сефер-бей, узнав о происшедших событиях, решил воспользоваться ими для утверждения своей власти у бжедухов и абадзехов. Он обнадеживал бжедухских князей и дворян именем султана, что их права, уничтоженные Магомед-Амином, будут полностью восстановлены. Эти обещания не могли оставаться тайной. Став известными бжедухским и абадзехским тфокотлям, они вызвали среди них большое волнение и заставили их снова поддержать Магомед-Амина. Собрав довольно крупные силы, наиб подошел с ними к р. Супе, куда прибыл со своими войсками и Сефер-бей. В начале мая между ними произошло вооруженное столкновение, не доставившее победы ни тому ни другому, после чего они разошлись в разные стороны. Положение, таким образом, по-прежнему осталось неопределенным, и заключение мира между Россией и коалицией держав застало двух «деятелей» Западного Кавказа в состоянии непрекращавшейся вражды.
В момент заключения Парижского мира Сефер-бей находился в Анапе и продолжал именовать себя «главнокомандующим всеми горскими народами и начальником турецких сил в Анапе». Будучи прекрасно осведомлен об условиях мирного договора, он, однако, не переставал провоцировать горские народы на продолжении войны с Россией, уверяя их, что Кавказ остался за Турцией.
В июле 1856 г. с приближением к Анапе русских войск Сефер-бей без сопротивления отошел в Новороссийск. Находясь здесь, он не оставил мысли о военных действиях против России и провокационно привел натухайцев и шапсугов к присяге на верность султану как их законному государю.
Представители русской администрации, в частности наказной атаман Черноморского казачьего войска генерал Филипсон, пытались убедить Сефер-бея отказаться от его пагубной политики по отношению к адыгам.
Как показали наступившие вскоре события, ошибкой было считать, что Сефер-бей преследовал лишь свои личные цели, оставаясь на Кавказе и продолжая бунтовать горские народы.
Очерк восьмой. События на Западном Кавказе после окончания Крымской войны. (1856—1864 гг.)
Окончание Крымской войны и заключение Парижского мира (1856) между Россией и враждебными ей державами отнюдь не означали прекращения со стороны последних подрывной антирусской деятельности на Западном Кавказе.
Вынужденные вследствие разногласий с Францией уступить в кавказском вопросе, правящие круги Англии не отказались от продолжения тайной борьбы с Россией. Не успели замолкнуть последние выстрелы Крымской войны, как снова стали распространяться прокламации, которые призывали горские народы к всеобщему восстанию против России. Доставлявшие их агенты снова обещали военную помощь Англии и Турции. В ход опять были пущены испытанные приемы, применявшиеся иностранной разведкой еще в 40-х годах XIX в.
Подрывная деятельность английских эмиссаров на Западном Кавказе в рассматриваемый период облегчалась тем, что почти во всех крупных портовых городах Черноморского побережья возникли английские консульства. Хотя местное русское командование и понимало истинный характер их деятельности, однако было бессильно что-нибудь против них предпринять.
Что касается правительства Турции, то оно после войны тем более не собиралось препятствовать деятельности своих ставленников на Западном Кавказе — князя Сефер-бея и наиба Магомед-Амина. Как турецкие, так и английские правящие круги видели в этом серьезное средство дальнейшего ослабления влияния России.
В конце 1856 г. русское командование на Западном Кавказе начало военные действия против сил Сефер-бея, находившихся в Новороссийске. 3 ноября отряд русских войск в составе двух батальонов пехоты, сотни казаков, полуэскадрона горцев при четырех полевых орудиях под командой подполковника М. А. Цакни вышел к Новороссийску. Сефер-бей не принял боя и бежал в Неберджайское ущелье. В Новороссийской бухте было захвачено девятнадцать турецких и греческих судов.
Обосновавшись в Неберджайском ущелье Сефер-бей продолжал бунтовать горцев. Он уверял их, что в самом непродолжительном времени на Кавказ прибудут крупные силы союзников и здесь будет создано особое горское государство.
Незадолго перед этим из Турции возвратился Магомед-Амин. Он приехал в сопровождении двух английских офицеров, именовавших его пашой и оказывавших ему генеральские почести, и привез из Константинополя бумагу, в которой якобы сообщалось, что султан отказывается от кавказских горцев, но советует им признать власть Англии, могущей всегда оказать им помощь против России. Вместе с этим он уверял, что русские войска весной оставят Анапу и уйдут за Кубань.
Сефер-бей, возмущенный предпочтением соперника, послал в Константинополь протест и потребовал объяснений. В результате развернувшейся между ними борьбы дело дошло до вооруженных столкновений, наиболее крупное из которых состоялось в январе 1857 г. близ р. Туапсе. В этом сражении сын Сефер-бея Карабатыр нанес поражение войскам Магомед-Амина. После Сефер-бей объявил, что он получил распоряжение турецкого правительства соединить все народы Западного Кавказа для общих действий против России и что на помощь ему будет выслан из Турции отряд численностью 4 тысячи человек.
Уже в конце 1856 г. в Константинополе была задумана новая политическая авантюра, которая, по мысли ее организаторов, должна была вызвать большие осложнения на Западном Кавказе. Русскому посланнику Бутеневу стало известно, что в Константинопольском порту находится судно «Аслан», нагруженное военными припасами и приготовленное к отправке на берега Кавказа. Вскоре ему сообщили, что, кроме «Аслана», к отплытию на Западный Кавказ подготавливается также пароход «Кенгуру», на котором вместе с военными грузами будет перевезен отряд волонтеров. Бутенев немедленно потребовал объяснений у великого визиря Решид-паши, но тот и другие турецкие министры дали крайне сбивчивые объяснения, в которых, однако, прозвучало вынужденное признание факта организации экспедиции. Оправдываясь, они уверяли, что участники волонтерского отряда, отправляющегося на Кавказ, не состоят на действительной военной турецкой службе, а лишь носят турецкие армейские чины, оставшиеся за ними после войны, в которой они участвовали.
Бутенев добился личного свидания с султаном, который по его настоянию назначил расследование обстоятельств дела. Кроме того, он даже согласился на требование Бутенева, чтобы с Кавказа были отозваны в Константинополь Сефер-бей и Магомед-Амин с их соучастниками.
Пока происходило следствие, сформированный в Константинополе отряд при благожелательном попустительстве турецких властей благополучно отплыл к берегам Кавказа. Большую роль в этом сыграл английский посланник в Константинополе лорд Редклиф, а также сам Решид-паша.
Прибыв на Кавказ, «легион» высадился в устье р. Туапсе, где находилось оставленное в начале Крымской войны русское укрепление. Во главе отряда стоял известный политический авантюрист венгр Баниа, он же Мехмет-бей, присвоивший себе громкий титул главнокомандующего «европейскими войсками на Кавказе».
Небезынтересно сказать несколько слов о прошлом Баниа. В предшествующие годы он был поочередно французским, затем прусским и английским разведчиком, занимал должность судейского чиновника, некоторое время искал счастье в Алжире, издавал газету в Пресбурге. В 1853 г. он переехал в Турцию, принял ислам и был произведен в чин полковника турецкой армии. Последнее превращение произошло не без участия английской дипломатической миссии в Константинополе. Известный нам уже майор Осман-бей, прекрасно осведомленный в интригах европейских держав на Кавказе, иронически писал по этому поводу: «...только англичане могли творить подобные чудеса, как превращение Бании в Махемед-бея и бывшего журналиста в полковника»
Приехав в первый раз на Кавказ вместе с Сефер беем и обосновавшись в Сухуми, Баниа развернул энергичную протурецкую и проанглийскую пропаганду. Для приобретения связей среди влиятельных старшин он даже женился на дочери одного из них. К. Маркс по этому поводу замечает в письме к Ф.Энгельсу от 18 марта 1857 г.: «По поводу Баниа. Этот самый Баниа с 1855 года является подручным Сефера-паши. Он женился на дочери черкесского вождя (что должно одинаково обрадовать и его законную жену в Будапеште, и его незаконную в Париже) и теперь сам стал черкесским вождем... Парень, видя, что его роль на Западе уже сыграна, начал новую — на Востоке».
Кроме Баниа, в высадившемся отряде крупную роль играли поляк Лапинский, венгр Браун и англичане Истервельс и Ромер.
По прибытии в Туапсе Баниа сейчас же отправил гонцов к Сефер-бею и Магомед-Амину с письмами, в которых сообщал им, что он прислан турецким правительством начальствовать над военными силами Черкесии. Сефер-бей немедленно явился к нему в Туапсе с большой свитой, но Магомед-Амин не пожелал этого сделать и ограничился лишь присылкой депутатов с приветствием.
В марте 1857 г. «легион» перешел в Адербиевское ущелье близ Геленджика. Здесь были устроены склады военного снаряжения и жилые помещения. Англо-турецкие вдохновители поставили перед руководителями отряда задачу снова поднять горцев на войну против России.
Занятие отрядом Баниа и Лапинского Геленджика сразу же вызвало резкое оживление здесь торговли рабами с Турцией.
Зная настроение горцев, стремившихся прекратить войну с Россией, организаторы описываемой авантюры выдвинули для их дезориентации коварный и предательский план. Они объявили, что их целью с ведома и согласия европейских держав и Турции является создание на Западном Кавказе «самостоятельного черкесского государства». Во главе его будет стоять черкесский князь, который признает русского императора своим покровителем, но не будет платить ему никаких податей, а население государства не будет нести никаких повинностей. Во имя достижения этой цели горские народы призывались в последний раз взяться за оружие. Призыв сопровождался провокационными уверениями в том, что французы и англичане окажут им военную помощь и примут живейшее участие в их судьбе. Все это делалось с целью втянуть местное население в новую войну с потерпевшей поражение во время Крымской кампании царской Россией.
Кандидатом на престол «владетельного князя Черкесии» был намечен Сефер-бей, продолжавший оставаться на Кавказе. Это означало, что его соперник Магомед-Амин снова отодвигался в тень политических кулис.
Прибыв в сопровождении свиты, состоявшей из дворян, в Геленджик, Сефер-бей принял верховное командование над «европейскими силами» и произвел смотр «легиона». В признании Сефер-бея главнокомандующим и заключалась причина, в силу которой обиженный Магомед-Амин, несмотря на посланное ему приглашение, отказался приехать в Геленджик для согласования планов своих действий с командованием «европейского легиона».
Оставив в Геленджике Лапинского, Баниа отправился в земли натухайцев, шапсугов и бжедухов с целью привлечь их к участию в военных экспедициях. Он добрался почти до самого Екатеринодара, посетив аул Энем, расположенный на левом берегу Кубани в 9 верстах от города. Рассматривая отсюда в подзорную трубу город, Баниа уверял окружавших его старшин, что в самом ближайшем будущем он будет взят и разрушен После этого Баниа двинулся к р. Псекупс для переговоров с находившимся здесь Магомед-Амином. Честолюбивый авантюрист в это время уже начинал тяготиться зависимостью от других руководителей высадившегося отряда и стремился играть вполне самостоятельную роль. В лице Магомед-Амина ему рисовался надежный союзник. Предоставив Лапинскому развертывание действий на Черноморском побережье, он намеревался открыть самостоятельные военные операции на линии р. Кубани. Однако Магомед-Амин не пожелал поддержать намерения Баниа, рассматривая их как узурпацию своих прав.
В апреле иностранные инструкторы приступили к обучению европейской военной тактике и стрельбе из орудий отрядов Сефер-бея, сосредоточенных в ущелье р. Псиф.
25 апреля отряд русских войск под командованием генерала Филипсона переправился через Кубань и на р. Адагум заложил Нижнеадагумское укрепление, которое должно было серьезно затруднить действия войск Сефер-бея и «европейского легиона». За два месяца, прошедших со времени высадки, этот «легион» значительно пополнился новыми волонтерами, навербованными в Константинополе.
Часть полученного из Турции военного снаряжения Сефер-бей распределил по аулам, что должно было уверить жителей в том, будто им действительно оказывается бескорыстная помощь Турцией и европейскими державами. Кроме военных грузов, турецкие купеческие суда доставляли в Геленджик, Новороссийск, Туапсе и на Пшаду соль и мануфактуру, а отсюда вывозили невольников.
Генерал Филипсон, закончив постройку Нижнеадагумского укрепления, решил произвести морской поиск в сторону Геленджика и Новороссийска. С этой целью во второй половине мая он двинулся из Анапы к Новороссийску. Подготовку экспедиции Филипсона не удалось сохранить в тайне. Все турецкие суда, находившиеся в бухтах Новороссийска и Геленджика, спешно выгрузив свои товары, вышли в море. Насколько велико было число этих судов, можно судить по: тому, что только из Новороссийской бухты отправились 2 брига и 27 кочерм н почти столько же из Геленджика.
Войдя в Новороссийскую бухту, Филипсон высадил на берег десант, который сломил сопротивление находившегося здесь гарнизона и сжег склады с товарами. Обстреляв затем орудийным огнем постройки в Геленджике, отряд Филипсона возвратился в Анапу.
Этот демарш сильно напугал турецких купцов, и они временно перестали доставлять товары на Черноморское побережье. Руководители европейской армии, понимая, что экспедиция Филипсона подорвала их престиж, спешно взялись за укрепление Геленджикской бухты. На берегу ее были вырыты траншеи и поставлены пушки. После этого Лапинский торжественно заявил старшинам, что русские никогда больше не посмеют войти в Геленджик.
Закончив работы по укреплению Геленджика, противники открыли военные действия против Адагумского укрепления. Подвезя несколько артиллерийских орудий, они начали его обстреливать. Серьезных результатов этот обстрел не дал. Не удалось также руководителям экспедиции и Сефер-бею заставить натухайцев произвести штурм укрепления.
Тем временем, потерпев неудачу в переговорах с Магомед-Амином, Баниа возвратился к натухайцам, где находился Сефер-бей, и стал заискивать перед ним. Он всячески старался завоевать его расположение и объявил Магомед-Амина врагом европейских держав и Турции. Так неприглядно развертывалась эта военно-политическая интрига европейской дипломатии, жертвой которой становились горские народы.
Между тем турки, уверовав в неприступность построен-. ных Лапинским в Геленджике укреплений, возобновили здесь торговлю. 11 июня генерал Филипсон получил сообщение, что в Геленджикской бухте скопилось большое количество турецких судов, в связи с чем и решил повторить поиск.
В ночь на 20 июня небольшой отряд под его командой на пароходе и баркасах подошел ко входу в Геленджикскую бухту. Высаженный на берег десант бросился к построенной Лапинским береговой батарее и овладел ею.
Высадка десанта явилась полной неожиданностью для командования «европейского легиона». Сам Лапинский, позорно бросив подчиненных, ускакал в Адербиевское ущелье.
В его палатке были найдены патент на чин полковника и много документов, часть которых, к сожалению, во время сражения была уничтожена.
Один из иностранных офицеров после бегства Ла. пинского попытался организовать контратаку, но эта попытка успеха не имела, и сам он был убит.
Вскоре к месту событий прибыли Сефер-бей и Баниа. Они обрушились на Лапинского, обвиняя его в трусости, но отстранить от командования, не имея санкции из Константинополя, не решились, и он остался в Адербии С этого времени между Лапинским и Баниа началась открытая вражда.
В сентябре 1857 г. русское командование организовало новую экспедицию к устью р. Туапсе. Высаженный десант после сражения с отрядами Сефер-бея уничтожил свыше сорока лавок с товарами и амбары с солью и зерном Все эти лавки и склады были построены шапсугскими старшинами, ведшими торговлю с турецкими купцами после ухода в 1854 г. русских войск, находившихся в Вельяминовском укреплении.
Действия русских отрядов быстро подорвали веру в реальность серьезной военной помощи со стороны Англии и Турции. Натухайцы решительно потребовали от Сефер-бея выполнения его обещаний относительно скорого прибытия иностранных войск. Сефер-бей, конечно, ничего определенного ответить не мог, так как турецкое и английское правительства вовсе не собирались посылать на Кавказ своих солдат, а стремились ослабить Россию, организовав здесь новые кровавые события силами самих горцев.
Крах затеянной в Лондоне авантюры с каждым днем становился все более очевидным. Разлад между руководителями «легиона» усиливался. Шапсуги и натухайцы решительно отказывались поддерживать Сефер-бея и его европейских сподвижников. Сознание неизбежности близящегося провала толкнуло Баниа на смелую попытку вступить в непосредственные переговоры с русскими военными властями. В своих письмах, сначала на имя наказного атамана Черноморского казачьего войска, а затем и самого Александра II, он заявлял, что «Россия может овладеть равнинами, но еще года протекут, пока она завладеет горами», и предлагал русскому правительству согласиться «на создание на Западном Кавказе черкесского государства с туземным князем во главе».
Вслед за Баниа послал письмо Александру II и сам Сефер-бей, в котором он от имени всех своих «подданных» требовал от русского правительства признания верховного покровительства над ними Турции.
Отношения Баниа с русскими властями не могли долго оставаться секретными. О них скоро стало известно Лапинскому, который воспользовался этим и арестовал Баниа, обвиняя его в измене. 3 января был произведен суд. Показания, данные Баниа, в мае 1858 г. были пересланы в копии русским посланником в Константинополе Бутеневым главнокомандующему войсками на Кавказе князю Барятинскому и представляют интересный материал о политической деятельности Англии, Франции и Турции на Кавказе. Так, Баниа подтверждает, что после ухода в мае 1855 г. русских войск из Анапы туда прибыл английский генеральный консул Лонгворт присланный своим правительством для того, чтобы склонить Сефер-бея к вооружению за счет Англии 6 тысяч горцев и к отправлению их в Крым. Эти же показания частично проливают свет на закулисную борьбу и разногласия, обнаружившиеся в ходе войны между союзниками, по вопросу о будущем Кавказа. Баниа, оскорбленный пренебрежительным отношением к себе со стороны Лонгворта, иронически пожелал ему успеха в организации названного отряда, а сам принялся «ему мешать всяким способом». Установив связь с помощником интенданта французской армии Лавалетом, он стал проводить в жизнь те мнения, которые складывались в правящих кругах Франции по вопросу о будущем Кавказа, и надо сказать, что этот прожженный авантюрист действовал очень умело.
После суда над Баниа Лапинский был объявлен главнокомандующим «европейскими войсками на Кавказе» и начал действовать вместе с сыном Сефер-бея Карабатыром, отряды которого, поддерживаемые артиллерией Лапинского, несколько раз предпринимали попытки форсировать Кубань и пройти к Екатеринодару. Однако все они окончились неудачей. Это привело к разложению отряда Лапинского и массовому дезертирству.
Наступал явный конец деятельности группы авантюристов, разжигавших по указке Турции и Англии пожар войны на Кавказе. Наступал конец деятельности также Сефер-бея и Магомед-Амина. Чувствуя близость неизбежной катастрофы, они в апреле 1858 г. сделали попытку объединиться. Их встреча состоялась во владениях абадзехов, переговоры длились восемь дней, но не дали положительных результатов и не привели к примирению между ними. Обосновавшись после этого в одном из натухайских аулов близ Анапы, Сефер-бей по-прежнему продолжал провоцировать адыгейские народы, но в декабре 1859 г. его деятельность была прервана смертью
Правительство султана, убедившись, что затеянная им в контакте с английскими правящими кругами авантюра Баниа и Лапинского кончилась провалом, в конце 1858 г. вновь попыталось организовать массовое вооруженное выступление горцев против России. На этот раз на Кавказ было послано совершенно официальное лицо, личный адъютант военного министра Риза-паши Омер-бей, который действовал здесь, не скрывая своего служебного положения. Он направился к Магомед-Амину, распространяя слухи, что по Парижскому миру местное население якобы признано независимым от России и что Парижский трактат предоставил ему полную свободу торговли по Черному морю с Турцией. Прибыв к Магомед-Амину, Омер-бей вручил ему письмо Риза-паши, которое было широко оглашено жителям аулов и содержало призыв не прекращать борьбы с Россией, а также обещание в самом ближайшем будущем вооруженной помощи.
В ответном письме, отосланном Магомед-Амином в марте 1859 г. в Турцию Риза-паше, говорилось: «Вся черкесская нация чувствует себя счастливой и гордится вашею благосклонностью, новые доказательства которой мы усматриваем в обещании вашего превосходительства продолжать тайную поддержку, каковую мы никогда не переставали получать».
Однако прошло очень немного времени после отправления этого письма, как Магомед-Амин счел для себя более благоразумным принести покорность русским властям. После окончательного поражения в 1859 г. сил Шамиля он пришел к выводу о бесполезности дальнейшей борьбы с Россией. Прекрасно понимая, что в Турции его ожидает весьма малопривлекательная будущность, он решил воспользоваться тем влиянием, какое сохранил еще над абадзехами, чтобы явиться к русским военным властям «с покорностью не одному, а с целым народом».
Это значило, что Магомед-Амин умело использовал давнишнее стремление абадзехских тфокотлей к прекращению войны с Россией, которое проявилось с особенной силой на фоне определившегося краха турецкой политики на Кавказе. Что касается абадзехских старшин, то они вынуждены были подчиниться, рассчитывая выиграть время.
Не приходится сомневаться, что этот ловкий шаг немало способствовал тому благосклонному отношению, которое, было проявлено к Магомед-Амину правительством Александра II. Как известно, после личного приема его императором в Петербурге он был пожалован пожизненной пенсией в размере 3 тысяч рублей ежегодно
Казалось, что со смертью Сефер-бея, развалом диверсионного отряда Баниа и капитуляцией Магомед Амина должна была закончиться Кавказская эпопея, но не так произошло в действительности.
После смерти Сефер-бея его сын Карабатыр, заняв его место, заявил, что будет продолжать борьбу с Россией. Летом 1861 г. к нему из Константинополя прибыло «посольство» в составе капитана турецкой службы Смеля, эфенди Гасана и одного английского офицера. Вместе с Карабатыром они разослали ко всем народам Западного Кавказа воззвание, в котором писали, что Англия и Турция обещают им покровительство и силой заставят Россию признать независимость Черкесии при условии, если они со своей стороны объединятся для борьбы с русскими.
Этой новой группе политических диверсантов временно удалось сплотить вокруг себя представителей социальной верхушки убыхов, шапсугов и абадзехов. Выполняя лондонские и константинопольские инструкции, они создали бутафорское «Центральное управление над черкесским народом», состоявшее из пятнадцати старшин. Сообщив о его возникновении русским военным властям и потребовав от них немедленного прекращения военных действий, организаторы этой затеи обратились к английскому консулу в Сухуми Диксону с декларацией. В ней говорилось: «После приветствования великой особы вашей надлежит представить вам настоящее наше положение, чтобы вы его представили великой державе, 40 лет благодетельствующей нам через посольство при Великой Порте». Далее в ней сообщалось о создании меджлиса из пятнадцати человек, об учреждении на Западном Кавказе двенадцати административных округов, о введении системы сбора налогов и организации постоянного ополчения. В заключение авторы декларации го-ворили: «...мы имеем обратиться с просьбой к порогу великой державы, нам благодетельствующей Англии, и ни в коем случае не перестанем быть в надежде на ее помощь».
Действительный смысл декларации состоял в идейной подготовке общественного мнения Европы еще к одной диверсии на Западный Кавказ, намечавшейся на 1862 г
Весной 1862 г. меджлис обнародовал призыв к новой священной войне против русских. В это время на Кавказ проникли многочисленные группы авантюристов, распространявших антирусские воззвания из Константинополя. Наряду с ними действовала разведывательная группа английских офицеров, высадившаяся в районе Джубги.
Однако и на сей раз англо-турецким агентам не удалось поднять серьезное движение. А в правительственных кругах Англии уже стало созревать довольно твердое мнение о невыгодности дальнейшей ставки на горцев в восточном вопросе, а следовательно, и о нецелесообразности серьезных денежных затрат на организацию им военной помощи. Единственное, что англичане сочли возможным сделать, — это перебросить на Кавказ морем из Трапезунда пять новейших орудий. Кроме того, из Лондона были доставлены магазинные ружья и револьверы, которые в это время только начали широко применяться.
Удачно обстреляв из привезенных орудий русский корабль, подошедший к устью р. Туапсе, и заставив его удалиться, иностранные инструкторы торжественно объявили об открытии военных действий «Европы» против России. Нет нужды говорить, какое смятение в умах рядовых горцев должно было произвести это событие.
Так развертывалась сеть политических провокаций, жертвой которых являлись адыгские народы.
Правящие круги боровшихся за обладание Кавказом государств не остановились еще перед одним тягчайшим преступлением, спровоцировав значительную часть населения Западного Кавказа на переселение в Турцию. В исторической драме, которая разыгралась в связи с этим и сопровождалась гибелью многих тысяч адыгов, главная доля вины, несомненно, лежит на правительствах Турции и Англии.
Более пятидесяти лет турецкое правительство внушало адыгам, что «могущественный султан, верховный представитель ислама, никогда не оставит их своею помощью, а европейские державы в своих интересах не могут допустить России овладеть Кавказом».
Сторонники Турции подчеркивали, что «черкесская кровь течет в венах султана Его мать, его гарем — черкесские; его рабы черкесы, его министры и генералы черкесы. Он глава нашей веры, а также нашей расы» [10; 341]
Ведя такую пропаганду, турецкая и европейская дипломатии рассматривали адыгские и другие народы как средство борьбы против утверждения России на Кавказе. Борясь за преобладающую роль на Ближнем Востоке, правящие круги капиталистической Англии энергично помогали турецкому правительству в его подрывной деятельности на Кавказе. Они не остановились и перед поддержкой мюридизма, видя в нем прекрасное прикрытие своего политического вмешательства. Правительства этих государств, постоянно провоцировавшие горские народы на продолжение вооруженного сопротивления России, не оказывали им никакой помощи в тяжело складывавшихся обстоятельствах. Верхом предательства, в частности, Англии по отношению к обманутым ею горцам Западного Кавказа явилось поведение английского посла в Константинополе в момент уже начавшегося отъезда их в Турцию, который, как известно, превратился в подлинное бедствие для тысяч переселявшихся адыгов. Страшным вероломством должен был прозвучать для их депутатов отказ английского посла сэра Бульвера даже выслушать просьбу о помощи. Мало того, сэр Бульвер счел нужным «любезно» проинформировать о своем отказе в помощи переселенцам русского поверенного в Константинополе Новикова, заявив ему, что вожди горцев старались заинтересовать его участью их соплеменников, но он отказался принять их просьбу. Незадолго же перед тем убыхские старшины, посетившие европейские посольства в Константинополе, встречали совершенно другой прием.
В лагерь Даховского отряда на р. Шекодзь осенью 1863 г. лазутчиками был доставлен ряд писем, полученных из Константинополя и адресованных убыхам и абадзехам. В этих письмах они призывались к продолжению войны с Россией.
Правительство султана действовало не менее предательски. В момент переселения, когда тысячи обманутых скопились на Черноморском побережье и среди них начали свирепствовать болезни и голод, его уполномоченные ездили по горным аулам и уговаривали оставшихся там жителей ехать в Турцию. Документом, изобличающим эту преступную тактику, является прокламация, распространявшаяся в горах турецким эмиссаром Мухаммед-Насаретом, которая гласила «Берите ваши семейства и все необходимые вещи, потому что наше правительство заботится о постройке для вас домов, и весь народ наш принимает в этом деятельное участие Если тяжебные дела задержат вас до весны, то по окончании их поспешите переселиться с таким же рвением, как предшественники ваши». Такая тактика, несомненно, являлась политико-стратегическим шагом по отношению к России со стороны Турции, которая, нуждаясь в человеческом материале для своей армии и готовясь к будущей войне с Россией, жадно поглощала с этой целью горцев Кавказа. Кроме того, уже шла подготовка Балканского плацдарма русско-турецкой войны 1877—1878 гг., и переселение туда значительного количества горцев было средством усилить преобладание мусульманского населения на Балканском полуострове.
Отметим попутно, что переселение горских народов в Турцию вызвало настоящий ажиотаж по линии гаремных поставок живого товара со стороны турецких купцов. Не удовлетворяясь закупкой девушек и женщин в прибрежных пунктах, турецкие работорговцы проникали в самые отдаленные места и там выискивали особенно ценный «товар», ведя вместе с тем агитацию за переселение в Турцию. Отдельные работорговческие фирмы посылали на Кавказ с этой целью даже своих доверенных лиц. Им поручалось отобрать самых красивых женщин и девушек.
Кроме турецких агентов, действовавших в пользу переселения в Турцию в 1863—1864 гг., большую роль играли в этом протурецки настроенная социальная верхушка убыхов, шапсугов, натухайцев и абадзехов, сохранившиеся у них пережитки общественных институтов родового строя и силы привычных социальных воззрений. Невыполнение принятого-тлеушем (собранием объединения общин) решения выехать в Турцию ставило отказавшегося в положение изгоя. Решиться на это рядовому человеку было очень трудно. Нужна была большая смелость мысли, чтобы стать на такой путь и разорвать пуповину крепких еще общинных связей, оста ваясь в России. Непринятие решения общины грозило неповинующимся и прямым физическим уничтожением. Л. Я. Люлье, проживший среди шапсугов, натухайцев и абадзехов более пяти лет, изучивший их язык, обычаи и общественное устройство, говоря о роли общин, указывал, что община имеет право жизни и смерти в отношении каждого своего члена. И тем более ярко выступила в данный момент сила русского влияния, сказавшаяся в том, что, несмотря на прямое противодействие царизма, многие тысячи адыгов все же решились, порвав крепкие еще общинно-родовые связи, остаться на Кавказе.
У бжедухов, которые десятки лет вели оживленную торговлю с русскими в прикубанской полосе и в большей степени, чем другие, подверглись русскому культурному влиянию, почти все крестьянство осталось на родине и в Турцию ехать категорически отказалось.
Решающее значение на собраниях общин имело мнение старшин. По существу, оно предопределяло исход решения обсуждаемого вопроса. Старшинская верхушка пустила в ход все влияние, чтобы заставить соплеменников переселиться в Турцию. Такая настойчивость объясняется тем, что она боялась потерять свою общественную роль и власть над унаутами и пшитлями.
Как это, может быть, ни покажется странным, но господствующие верхи адыгских народов были прекрасно осведомлены о проведении крестьянской реформы в России и обнаруживали к этому вопросу большой интерес.
Шапсугские и натухайские старшины, захватившие львиную долю конфискованных тфокотлями у дворян пшитлей и унаутов, с тревогой ожидали окончания кавказских событий, прежде всего потому, что боялись распространения освобождения крепостных и на территорию Кавказа. Пытаясь, представить свое будущее, старшины «демократических племен» приходили к весьма мрачным выводам. Оставшись, как мы видели, за бортом правительственной опеки царизма, который распространил привилегии русского дворянства лишь на дворянско-княжескую знать адыгов, они не могли рассчитывать на сохранение привилегированного правового и имущественного положения после перехода под власть России.
Неизбежное распространение крестьянской реформы на Кавказ с последующим освобождением их пшитлей й унаутов грозило им подлинной хозяйственной катастрофой.
У них не было ни служебных наделов земли, какие имел каждый офицер-адыг, ни надельных потомственных владений, какие выделяло правительство многим неслужащим князьям и дворянам. Следовательно, теряя своих «подвластных», они скатывались с вершины «почетного» положения в среду общеаульной рядовой массы населения и должны были испытать произвол царской администрации при переселении на новые места жительства в Прикубанскую низменность. Переселение из горной полосы Западного Кавказа на плоскость, как известно, сопровождалось разорением адыгского крестьянства, гибелью и расхищением его скота.
Старшинская знать в стремлении заставить соплеменников переселиться в Турцию нашла общий язык с частью дворян протурецкой ориентации, которые, несмотря на потерю к описываемому времени ряда сословных привилегий, благодаря политическому компромиссу со старшинами сохранили в своих руках значительное количество крепостных и жили за счет их труда.
Большинство дворян, ведших двойную игру или же упорно державшихся турецкой ориентации, видя неизбежность подчинения России, также предпочли, захватив рабов и крепостных, уйти в Турцию. Наиболее дальновидные из них сделали это заблаговременно, в 1858—1862 гг., избежав тем самым бед, выпавших на долю основной массы горцев, переселявшейся в 1863—1864 гг. Характерно, что еще задолго до рассматриваемого времени многие адыгские князья и дворяне открыто высказывали опасение, что Россия может «крестьянам их даровать свободу». Этим и объясняется, в частности, тот факт, что шапсуг-ские дворяне в момент развязки военных событий на Западном Кавказе поспешили поскорее принести покорность царизму и быстрым отъездом в Турцию избавиться от опасности потерять своих «холопов».
Переселение в Турцию вместе с рабами и крепостными дворян и старшин в 1858—1862 гг. производилось совершенно открыто под легальным предлогом паломничества в Мекку. Такие паломничества обычно всегда легко разрешались русскими властями. Насколько велико было число переселившихся подобным образом, можно судить по тому, что только в 1858—1859 гг. их отправилось туда до 30 тысяч человек. В 1862 и в начале 1863 г. уехало в Турцию еще 50 тысяч человек. Значительную часть из них составляли рабы и крепостные, увозимые в Турцию владельцами под именем домочадцев. Препятствия, которые пыталось вначале создавать русское командование, чтобы несколько уменьшить этот вывоз зависимого населения с Кавказа, легко устранялись. В 1859 г. главный штаб Кавказской армии издал руководства, в которых указывалось, что отъезжающим в Турцию адыгским владельцам разрешалось брать с собой «из холопов лишь тех, которые сами пожелают следовать за ними, отказывающихся же от поездки продавать не дозволяется». Само собою разумеется, что пшитлю, приведенному своим владельцем к месту посадки на отходящее в Турцию судно и не знающему русского языка, трудно было доказать нежелание ехать туда, тем более что его хозяин предусмотрительно скрывал изданные по этому вопросу распоряжения русских властей. В числе их было и распоряжение, гласившее, что с уехавшими в Турцию под предлогом паломничества свободными адыгами, принявшими там турецкое подданство, в случае их возвращения на Кавказ будет поступлено как с изменниками, имущество же их «будет конфисковано, и крепостные люди (холопы) получат свободу». Срок, в течение которого уходившие на богомолье в Мекку должны были возвратиться назад, устанавливался в один год.
Своевременно эвакуировавшись в Турцию, многие из адыгских князей и дворян сумели приобрести там даже высокое служебное положение. Так, сын последнего владетельного бжедухского князя Тархана Хаджимукова — Хасан Хаджимуков занимал в звании паши пост главного директора военных училищ Турции.
Весть о крестьянской реформе 1861 г. в России произвела на феодальную верхушку ошеломляющее действие. Не будучи в состоянии подняться выше социальных воззрений своей среды, стремившаяся к укреплению власти над зависимым населением, она не представляла себе дальнейшее существование без привычных форм общественных отношений. Она могла до известной степени примириться даже с прекращением работорговли с Турцией, но не могла примириться с потерей владельческих прав над зависимыми людьми. И старшины шапсугов, абадзехов, натухайцев вместе с представителями старой дворянско-княжеской знати, не включившимися в орбиту правительственной политики России, скорее готовы были со страданиями и лишениями увезти через Черное море на турецкой кочерме рабов и крепостных, чем остаться на родине и их лишиться. Тем более что слухи о проведении крестьянской реформы в России стали серьезно волновать порабощенный горский крепостной народ.
Помощник начальника Кубанской области полковник Дукмасов отмечал, что под влиянием распространившихся слухов об освобождении крестьян Ставропольской губернии адыгские «крестьяне, рассчитывая на самое близкое освобождение, стали оказывать неповиновение владельцам и не желали исполнять свои прежние повинности. Встревоженные этим владельцы отправили из своей среды депутацию в Тифлис, дабы там просить оставить у них крестьян в крепостной зависимости на вечные времена».
Хозяйство эксплуататорской адыгской верхушки строилось на зависимом труде. Но факт подчинения России, вступившей на путь капитализма, неизбежно должен был повлечь за собой перестройку его на новых началах. В результате создался весьма своеобразный исторический парадокс: реформа 1861 г. испугала социальные адыгские верхи больше, чем все военные успехи царизма. «Дух времени и слухи об освобождении крестьян в России и Закавказском крае произвели свое действие, и случаи столкновений горских холопов с их владельцами и взаимные жалобы становились все чаще и чаще, делая отношения между ними все более и более натянутыми»,— писал два года спустя после этих событий наместник Кавказа военному министру.
Хозяйство и общественный строй народов Западного Кавказа, будучи втягиваемы в общий процесс экономического развития России, должны были подвергнуться серьезным изменениям под давлением капиталистических отношений, поскольку капитализм, как указывал В. И. Ленин, не может существовать и развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, без колонизации новых стран и втягивания некапиталистических старых стран в водоворот мирового хозяйства. И это свойство капитализма с громадной силой проявлялось в пореформенной России.
Таким образом, старшинская верхушка шапсугов, абадзехов, натухайцев в контакте с дворянством заняла явно реакционные позиции. Уводя соплеменников в Турцию, они уводили их в социальное «прошлое»: от надвигавшихся капиталистических форм общественных отношений к феодализму. В отличие от Османской империи Россия уже стояла на пути превращения в буржуазную монархию.
Агитация старшин и дворян нашла сочувственный отклик и у значительной части богатых тфокотлей, которые не менее цепко держались за своих рабов и рассчитывали сохранить над ними власть, переселившись в Турцию.
Остальная же масса свободного населения адыгского общества, не применявшая в хозяйстве подневольного труда, запуганная ходом военных событий, растерявшаяся, морально подавленная, не нашла в себе сил противостоять давлению социальных верхов. Ее запугивали произволом русских властей, солдатчиной, мнимой необходимостью отказаться вместе с принятием русского подданства от мусульманской религии и т. д.
Здесь нельзя не коснуться роли протурецки настроенной части мусульманского духовенства. Выполняя инструкции, шедшие из Константинополя, относительно максимального переселения адыгов в Турцию, оно пустило в ход религиозную демагогию. Свободным тфокотлям, колебавшимся в намерениях относительно отъезда в Турцию, угрожали всеми муками ада, если кто-либо из них останется на Кавказе и подчинится «гяурам». Пшитлей же и унау-тов уверяли, что в Турции их ждет полное освобождение, придавая переселению туда характер исхода «в землю обетованную»!
В своей агитационной деятельности эта часть мусульманского духовенства снова выдвинула тезис, что согласно корану мусульманин не может быть рабом у мусульманина же, и демагогически объясняла их зависимость на родине исключительно тем, что они жили до сих пор вдали от взоров падишаха.
Подавленному престижем духовенства пшитлю трудно было сомневаться в этих обещаниях, и он верил, что стоит ему ступить на берег Турции, как он обретет желанную свободу.
Действительность, как известно, оказалась совершенно иной. По данным английского консула в Трапезунде, из высадившихся в Анатолии за время с ноября 1863 по сентябрь 1864 г. 220 тысяч черкесов были проданы в качестве невольников 10 тысяч человек, а 100 тысяч умерли от голода и болезней.
Если бы в описываемый момент царское правительство способно было подняться до правильного понимания хода событий и широкой декларацией провозгласить освобождение зависимого населения адыгов, то оно не допустило бы гибели многих тысяч рабов и крепостных, покинувших родину. Но царизм не мог перестать быть самим собою, и правительство Александра II, вынужденное обратиться к проведению крестьянской реформы в России под напором нараставшей революционной ситуации в стране, вовсе не собиралось выступать в роли повивальной бабки истории, помогающей рождению новых, более высоких форм социальных отношений у адыгов.
Кроме того, 60—70-е годы XIX в. были временем весьма тревожным для русского самодержавия. Польское восстание 1863 г. и новые интриги европейской дипломатии на Кавказе, крестьянские бунты, прокатившиеся по стране в ответ на реформу, деятельность революционно-демократического лагеря — все это накаляло обстановку. В этих условиях правительство Александра II готово было любыми средствами поскорее покончить с кавказской проблемой и все силы направить на борьбу с внутренней «крамолой».
Решение кавказского вопроса царизмом ставилось и в прямую связь с аграрными вопросами внутри страны. В случае нового подъема крестьянского движения «свободные» земли Западного Кавказа должны были явиться территорией, куда правительство рассчитывало переселить значительную часть крестьян из внутренних губерний и таким образом ослабить аграрный кризис. Этим объясняется нарочитое распространение еще в 1861 г. среди крестьян Рязанской, Воронежской и соседних с ними губерний слухов о переселении на Кавказ, где не только «земли раздают, и еще деньги платят, коли пойдешь в казаки».
В области внешнеполитической Наполеон III, увидевший в сближении России с Пруссией серьезную опасность для буржуазной Франции, не прочь был еще раз попугать Александра II «черкесами». Этим и обусловливались ставшие известными в 1863 г. его интриги на Западном Кавказе с участием французского консула в Трапезунде, который, выполняя полученные распоряжения, послал на северо-восточный берег Черного моря большую группу агентов, призывавших горские народы не складывать оружия, так как Франция якобы в ближайшем будущем окажет им военную помощь. Действуя так, Наполеон III рассчитывал осложнить для правительства Александра II польское восстание одновременным восстанием на Кавказе, принося в жертву своим политическим интересам тысячи жизней обманутых людей.
Условия Парижского мира, делавшие Черноморское побережье Кавказа по существу открытым для повторения политических авантюр в духе предприятия Баниа и Лапинского, и обнаружившиеся происки французского правительства немало способствовали настроению Александра II «не препятствовать» переселению горцев в Турцию. Он серьезно опасался, что в случае новой войны Черноморское побережье Кавказа вновь станет ареной политических интриг европейской дипломатии. Такая позиция правительства Александра II была, несомненно, политической капитуляцией перед враждебными России державами.
В 1867 г. правительство осознало допущенную ошибку и отменило разрешение горскому населению Западного Кавказа выселяться в Турцию. Более того, было объявлено, что само заявление о переселении будет считаться преступлением. Немалое значение в этой перемене курса имело то обстоятельство, что правительству Александра II все яснее становились цели, преследуемые Портой, которая, как сообщал из Константинополя русский посол, в лице озлобленных лишениями и обнищавших переселенцев получает «драгоценный для турецкой армии материал».
Попутно укажем, что деятельность по сманиванию обманутых народов Кавказа в Турцию ее правительство неуклонно стремилось продолжать вплоть до начала XX в. Наиболее деятельными агентами и в этот период времени по-прежнему оставались муллы, бывшие князья, уздени и аульные старшины, которые надеялись «по переселении в Турцию приобрести больше значения среди своих сограждан». В Кубанской области особенно активную агитацию вели: эфенди Мухаммед Ганахон (в аулах Тугургоевском, Шенокиевском и др.), эфенди Хут (в аулах Казанукоев-ском, Шаган Чернегабльском, Шабаногабльском и др.), эфенди Челягаштук, а также старшина Таркан-Куйсак. Их агитация сводилась к призывам добиваться переселения адыгов в Турцию на том основании, что «они... должны удалиться к законному своему государю — турецкому султану».
Не останавливаясь на описании деятельности турецких эмиссаров в конце XIX в., ограничимся лишь общим замечанием, что протурецкая пропаганда среди мусульманского населения России в этот период охватила огромное пространство. Сотни агентов действовали на Кавказе, в Поволжье и других местностях России, убеждая мусульман переселяться в Турцию и собирая пожертвования «для поддержки ислама и калифата».
Следует указать, что на бжедухах, не поддавшихся провокациям иностранной агентуры и феодальной верхушки и оставшихся жить на прежних местах, описанные события отразились в гораздо меньшей степени, чем на других народах. Бжедухи к этому времени имели уже достаточно прочные экономические и культурные связи с русским населением Прикубанья. Наказной атаман Кубанского казачьего войска, посетив в мае 1866 г. ряд прикубанских бжедухских аулов, писал, что, несмотря на самое близкое соседство их территории с землями казачьих станиц, «казаки означенных станиц и жители аулов ни мало не встречают между собой недоразумений, а напротив, они живут как ближние и добрые соседи».
Кроме бжедухов, на Кавказе осталась также часть населения, принадлежавшая к другим адыгским, народам. Многие были в прошлом рабами и крепостными, бежавшими от своих владельцев и поселенными русским командованием в так называемых мирных аулах по берегу Кубани. Другие же, из числа свободных тфокотлей, нашли в себе достаточно решимости отказаться от переселения в Турцию и остаться на родине. Довольно много осталось также и адыгских дворян, связавших свою судьбу с русским самодержавием и перешедших к нему на службу. Тфокотли, порвав с общинами, либо открыто заявляли об этом решении, либо укрывались в глухих горных ущельях. Здесь они зарывали в землю вывезенный во вьюках хлеб и имущество, выжидая того момента, когда смогут выйти к местам прежнего жительства. Большинство их стало выходить из горных трущоб в следующем, 1865 г. Страшно изнуренные, они обращались к русским властям с просьбой разрешить им вывезти из гор спрятанное там имущество.
Для оставшихся на Западном Кавказе горцев гибель десятков тысяч их соплеменников при переезде в Турцию и печальная судьба достигших ее берегов скоро стали хорошо известны. Отдельные переселенцы, которым с громадным трудом удалось возвратиться назад, рассказывали о том, как встретило их турецкое правительство. Вместо обещанных готовых домов и селений на плодородном побережье Черного моря они были расселены в самых пустынных местностях Малой Азии, причем турецкие власти предварительно очень долго переводили их с места на место, не считаясь со страшной смертностью, которая уносила людей тысячами. Часть переселенцев была размещена на Балканском полуострове, где беженцы также не получали ни определенных участков земли для жительства, ни каких-либо ресурсов для поддержания существования. Озлобленные пережитыми бедствиями, изголодавшиеся и обносившиеся, они волей-неволей должны были вступить в состояние постоянной войны с местным населением, чтобы хоть как-нибудь поддерживать жалкую жизнь своих семей.
Такое положение дел как нельзя более отвечало интересам политики турецкого правительства на Балканах, где оно постоянно сеяло рознь между народами и угнетало славянское население.
В 1872 г. доведенные до отчаяния переселенцы, изнемогавшие под гнетом султанской администрации и горских владельцев, за которыми турецкое правительство признало их права, обратились к русскому послу в Константинополе с прошением, в нем писали:
«Вот уже почти 8 лет, как наши беи нас держат в состоянии невообразимого рабства, совершая тысячу жестокостей, чиня тысячу препятствий. Днем и ночью мы и наши семьи подвергаемся варварскому обращению беев. Мы лишены свободы, семьи, имущества, всего дорогого каждому человеку, так как беи нас угнетают и отбирают ежегодно половину того, что мы зарабатываем с таким трудом в поте лица. Не довольствуясь этим, они отнимают у нас вооруженной силой наших дорогих детей, мальчиков и девочек, и продают их в рабство. Они угоняют наших овец и коров, опустошают наши дома. Мы умираем с голоду от этих жестокостей.
При настоящем положении вещей, признавая всю тяжесть совершенной ошибки, мы, нижеподписавшиеся, от имени 8 500 семейств просим вас, ваше превосходительство, припадая к вашим стопам, испросить прощение нашей вины и разрешить возвратиться на Родину... Во имя бога и человеколюбия просим избавить нас от этой тирании. Если же вы, ваше превосходительство, не внемлете нашим просьбам, мы погибнем под игом наших беев при попустительстве оттоманского правительства».
Вполне понятно, что все эти обстоятельства, став известными оставшимся на Западном Кавказе народам, вызвали с их стороны резкое негодование против Турции. Оно проявилось в годы русско-турецкой войны (1877—1878), во время которой многие адыги стремились отомстить туркам за гибель близких, сражаясь в рядах русской армии или же помогая ей материальными средствами. Остановимся несколько подробнее на этом в высшей степени важном моменте.
С началом войны турецкое правительство направило на Западный Кавказ агентов, призывавших живущие здесь нерусские народы к восстанию против России, но их усилия не имели успеха: их не только не слушали, но изгоняли из аулов или же арестовывали. Та же судьба постигла и вторую группу, посланную высадившимся в Сухуми с турецкими войсками Фезли-пашой.
Когда же из пределов Кубанской области русским командованием была предпринята экспедиция в Абхазию для действий против турецких войск, то адыги проявили себя так, что, как писали «Кубанские областные ведомости», «...всякое недоверие к ним должно бы исчезнуть».
Русские войска под командованием генерал-лейтенанта Бабича, двигавшиеся в Абхазию через Главный Кавказский хребет по труднопроходимым горным тропам, были обязаны успехом выполнения поставленной перед ними задачи почти исключительно помощи адыгского населения. Для перевозки запасов провианта и грузов, находившихся при войсках, потребовалось до тысячи вьючных лошадей, способных вынести труднейший поход через горы в области вечных снегов. Узнав о сборе отряда, местное население тотчас же предложило лошадей с коневодами без всякого вознаграждения. В результате конный транспорт отряда был собран в течение двух недель — в самый разгар полевых работ (июль 1877 г.).
В состав русских войск вошел особый конно-иррегулярный полк, составленный из горцев. Число желавших поступить в него было настолько велико, что многим из них пришлось отказывать. Этот полк представлял собой, как сообщала областная газета, такую кавалерийскую часть, какой можно было бы «щегольнуть в любой европейской армии».
Действительно, в боевых действиях полк проявил себя с самой хорошей стороны, сражаясь с турками «едва ли не лучше остальной кавалерии». На артельное хозяйство конно-иррегулярного полка аульные общества отпустили крупные денежные суммы и продукты питания.
Дело, конечно, заключалось не в преданности адыгского народа царизму, которому основная масса его имела весьма мало оснований быть благодарной, а в тех обстоятельствах, что освещены выше.
Заканчивая обзор событий, происходивших на Западном Кавказе на грани первой и второй половины XIX в., можно сказать, что европейской дипломатии и царизму не удалось оборвать исторически прогрессивный ход процесса сближения адыгских народов с Россией.
Библиографический список
Труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология//Соч. Т. 4. С. 14.
Маркс К., Энгельс Ф. Лорд Пальмерстон//Соч. Т. 9. С. 548.
Маркс К., Энгельс Ф. Эвакуация Придунайских княжеств //Соч.-Т. 10. С. 158.
Маркс К., Энгельс Ф. Английское военное управление. Экономическое и политическое положение Англии. Четыре пункта // Соч. Т. 10. С. 245, 246.
Маркс К, Энгельс Ф. Крымская кампания. Падение Севастополя. Непостижимая война // Соч. Т. 10. С. 525.
Маркс К., Энгельс Ф. Вступление Англии и Франции в войну. Военные действия на Балтийском и Черном морях.— Англо-французская система военных операций // Соч. Т. 10. С. 36, 39
Маркс К. Капитал. М., 1955. Т. 1. С. 140.
Маркс К. Капитал. М., 1949. Т. 3. С. 804.
Маркс К. Черновые наброски письма к В. И. Засулич//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27. С. 694, 695.
Маркс К. Письмо к Ф. Энгельсу от 18 марта 1857 г.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 183.
Энгельс Ф. Марка//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 15. С. 634.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Госполитиздат, 1950. С. 162,170.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1950. С. 164.
Энгельс Ф. Письмо К. Марксу от 23 мая 1851 г.//Маркс К-, Энгельс Ф. Письма. М., Л., 1932. С. 52.
Ленин В. И Развитие капитализма в России//Соч. Т. 3. С. 120, 141, 522.
Использованные архивные документы
Государственный архив Краснодарского края (ГАКК)
Фонды:
Пашковское станичное правление Канцелярия наказного атамана Кубанского казачьего войска (бывшая канцелярия кошевых и войсковых атаманов Черноморского казачьего войска)
Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска
Войсковое правление Кубанского казачьего войска Войсковое дежурство Черноморского казачьего войска Канцелярия начальника Черноморской береговой линии Канцелярия начальника Черноморской кордонной линии 1-е и 2-е казачьи отделения штаба Отдельного Кавказского корпуса
Екатеринодарская карантинная контора Черноморского казачьего войска
Ейское сыскное окружное начальство
Штаб начальника Лабинской кордонной линии
Комиссия для разбора сословных прав горцев Кубанской и Терской областей
Гражданская канцелярия начальника Кубанской области
Екатеринодарский окружной суд
Кубанская областная чертежная
Усть-Лабинский меновой двор
Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИА СССР)
Кавказский комитет
Архивный фонд Краснодарского историко-археологического музея-заповедника
Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК). Тифлис, 1869-1904. Т. 3, 6, 8, 10, .12. .
Крестьянская реформа в Кабарде: Сборник документов и материалов. Нальчик. 1947.
Литература
Абцедарий. Искатели приключений в среде населения. Западного Кавказа//Кубанские областные ведомости. Екатеринодар, 1874. №17—24. .
Адамов Е., Кутаков Л. Из истории происков иностранной агентуры во время кавказских войн//Вопросы истории. 1950. №11.
А.Д.Г. Очерк горских народов правого крыла Кавказской линии //Военный сборник, 1860 №1.
Багалей Д. Генеральная опись Малороссии // Киевская старина. 1883. Т. 7.
Багалей Д. Займанщина в Левобережной Украине XVII и XVIII ст. //Киевская старина. 1883. Т. 7
Берже А. Г. Выселение горцев с Кавказа в 1858—1866- гг // Русская старица. 1882. Т. 23.
Берже А. Г. Горские племена Кавказа//Живописная Россия Спб. 1883. Т 9.
Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823. 4.2.
Бухаров Д. Россия и Турция от возникновения политических между ними отношений до Лондонского трактата 13/'25 марта 1871 г Спб., 1878.
Васильев Е. Черноморская береговая линия 1834—1855- г // Военный сборник. Пб., 1-874. № 9.
Васильков В. В. Очерк быта темиргоевцев//Сборник мате риалов для описания местностей и племен Кавказа Тифлис, 1901 Вып 29
Венюков М И Очерк пространства между Кубанью и Белой
// Записки Русского географического общества. Спб.. 1863. Кн. 2.
Beнюков М. И. Кавказские воспоминания (1861 — 1863 гг.)' // Русский архив. 1880. Т. 1.
Высадка в 1857 г. на черкесский берег польско-английского десанта // Кавказский сборник. Тифлис, 1887. Т. 11.
Гаврилов П. А. Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1869. Вып. 2.
Главани Ксаверио. Описание Черкесии 1729 г.//Сборник материалов для изучения племен и местностей Кавказа. Тифлис, 1893. Вып. 19.
Голобуцкий В. А. Социальные отношения в Запорожье V XV111 в.//Вопросы истории. 1948. №9.
Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.
Дроздов И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе // Кавказский сборник. Тифлис, 1877. Т. 2;
Дроздов И. Обзор военных действий на Западном Кавказе с 1848 по 1856 г. // Кавказский сборник. Тифлис, 1886. Т. 10.
Дубровин Н. Ф. Черкесы (адыге). Краснодар, 1927.
Духовской С. Даховский отряд на южном склоне Кавказских гор в 1864 году. Пб., 1864.
Записки Одесского общества истории и древностей. 1863. Т. 5; 1879. Т. И; 1902. Т. 24.
Запорожцы в конце XVIII века//Киевская старина. 1889. Т. 27.
3иссерман А. Л. Странное обвинение // Русский архив. 1886. № 11.
Иваненко Н. С. Землевладельцы Кубанской области и раздел земель//Известия общества любителей изучения Кубанской об ласти. Екатеринодар, 1902. Вып. 3.
Каламбий. На холме .(Записки черкеса) // Русский вестник М., 1861, ноябрь. Т. 36.
Каменев Н. Л. Бассейн Псекупса//Кубанские войсковые ведомости. 1807. №27, 28.
Карлгоф Н. Магомет Амин // Кавказский календарь на 1861 г Тифлис, 1860.
Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племе населяющих северо-восточный берег Черного мори // Русский вестни М., I860. Т. 28, кн. 2.
Кириллов П. Краткий очерк колонизации Кубанской области // Кубанские областные ведомости. 1892. №26.
Керашев Т. М. Дочь шапсугов. Майкоп. 1957.
Клинген И. Основы хозяйства в Сочинском округе. Спб., 1897 Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890 Т 1 Короленко П. П. Черноморцы. Спб., 1874 Короленко П. П. Двухсотлетие Кубанского казачьего вой ска. Екатеринодар, 1896.
Косвен М О. Проблема общественного строя горских народов Кавказа в ранней русской этнографии//Советская этнография 1951. №1
Косвен М О Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке// Кавказский этнографический сборник М Л., 1955 Т I
Лавров Л. И. Развитие земледелия на Северо-Западном Кавказе с древнейших времен до середины XVIII в.//Материалы по истории земледелия СССР. М., 1952.
Лазаревский А. Люди старой Малороссии // Киевская старина. 1882. №1.
Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Спб., 1893,1906. Вып. 1—2.
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Одесса, 1882, 1883. Вып. 1-2.
Люлье Л. Я. Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухажцев//3аписки Кавказского отд. Русского географического общества. Тифлис, 1866. Кн. 7.
Люлье Л. Я. Черкесия. Краснодар, 1927.
М. Б. Лето на Кавказе// Русская мысль. М., 1901. Кн. 4.
Маркграф О. В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства по материалам, собранным А. В. Золотаревым и др., М., 1882.
Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии // Киевская старина. 1882. Т. 1.
Народы Западного Кавказа (По неизданным запискам природного бжедуха князя Хаджимукова)//Кавказский сборник. Тифлис, 1910. Т. 30.
Новицкий Г. В. Географическо-статистичсское обозрение земли, населенной народом адехе//Тифлисские ведомости. 1829. №22.
Ногмов Шора Бекмурзин. История адыгейского народа // Кавказский календарь на 1862 г. Тифлис, 1861.
О зависимых сословиях в горском населении Кубанской области // Кубанские войсковые ведомости. 1867. №15—18.
Осман-бей. Воспоминания 1855 г. События в Грузии и на Кавказе//Кавказский сборник. Тифлис, 1877. Т. 2.
Письмо егерского офицера из-за Кубани // Северная пчела. 1831. №27.
Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 1924.
Покровский М. В. Городища и могильники среднего Прикубанья // Труды Краснодарского гос. пед. ин-та. Краснодар, 1937. Т. 6, Вып. 1.
Покровский М. В., Аифимов Н. В. Карта древних поселений и могильников Прикубанья // Советская археология. 1937. № 4.
Покровский М. В. Из прошлого Кубани // Кубань. 1945. № 1.
Покровский М. В. Военные действия у Новороссийска и на Таманском полуострове во время Крымской войны//Кубань. 1949. № 7.
Покровский М. В. Иностранные агенты на Западном Кавказе в первой половине XIX века // Кубань. 1952. № 11.
Покровский М. В. Диверсионная деятельность иностранных агентов на Западном Кавказе после окончания Крымской войны // Кубань. 1953. № 13.
Покровский М. В. Социальная борьба внутри адыгейских племен в конце XVIII — первой половине XIX века и ее отражение в общем ходе Кавказской войны. М., 1956.
Покровский М. В. О характере движения горцев Западного Кавказа в 40—60-х годах XIX века // Вопросы истории. 1957. № 2.
Покровский М В. Русско-адыгейские торговые связи. Майкоп, 1957
Покровский М. В. Политика русского царизма по отношению к адыгейской феодальной знати в конце XVI11 — первой половине XIX в.//История СССР. 1958. № 1.
Покровский М. В. Адыгейские племена в конце XVIII - пер вой половине XIX века // Кавказский этнографический сборник (Тру ды ин-та этнографии АН СССР). М., 1958.
Попко И. Д. Черноморские казаки. Пб., 1858.
Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах легендах и биографиях. Пб., 1885. Т. 1.
При моде (Дела Примоде). История черноморской торговли в средних веках. Одесса, 1850.
Расико-Туранский Я. Н. Адыге до и после Октября. Краснодар, 1927.
Ростовцев М. И. Эллинство и нранство на юге России. Пг , 1918
Руновский А. Записки о Шамиле. Пб., 1860.
Руновский А. Муридизм и газават в Дагестане по объясне нию Шамиля//Русский вестник. 1862.№ 12.
С. А. Г Об отношениях крестьян к владельцам у черкесов//Кав-каз. Тифлис, 1846. № 9.
Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа //Кавказский сборник. Тифлис, 1900. Т.21.
Смоленский С. Воспоминания ка'вказ"ца//Военный сборник 1-876. № 7.
Собриевский А. С. Торговое общество казаков в Черноморском (Кубанском) казачьем войске//Кубанский сборник. Екатериной дар, 1898. Т. 4.
Тарле Е. В. Крымская война. В 2 т. 2-е изд. М.', Л'., 1950 Т. 1—2.
Токарев С. А. Религиозные пережитки среди черкесов-шап сугов и их преодоление: Материалы шапсугской экспедиции 1939 г М„ 1940.
Тотоев М.С. К вопросу о переселении кабардинцев в Тур цию//Ученые записки Северо-Осетинского гос. пед. ин-та Дзауджикау, 1949. Т. 18.
Т. (Торнау Ф. Ф. ) Воспоминания кавказского офицера//Русский вестник. 1864. Т. 53. № 9.
Тхагушев Н. А Адыгейские (черкесские) сорта яблони и груши. Майкоп, 1948
Фадеев А В. Мюридизм как орудие агрессивной политики Турции и Англии на Северо-Западном Кавказе в XIX столетии//Вопросы истории. 1951. № 9.
Фадеев А. В. Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX века М., 1958.
Фелицын Е Д. Князь Сефер-Бей Зан//Кубанский сборник Екатеринодар, 1904. Т 10 -
Фелицын Е Д. К вопросу о сословиях у горских племен Кубанской области//Кубанские областные ведомости. 1887. № 27
Фелицын Е. Д. Исторические документы Запорожского Сечевого архива//Кубанские областные ведомости 1889 № 28
X, Г (Хан-Гирей) Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов "Русский вестник 1842 Т 5. № I
Xан-Гирей Бесльний Абат//Кавказ 1847 № 42 Хан-Гирей Князь Пшьской Аходягоко//Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа Тифлис, 1893 Вып 17
Черный К. Н. Ейский уезд: Статистическое описание//Кубанский сборник. Екатеринодар, 1883. Т. 1.
Чернышевский Н. Г. Сочинения М., 1953. Т. 16 (дополнительный).
Шамрай В. С. Краткий очерк меновых (торговых) сношений по Черноморской кордонной и береговой линии с закубанскими горскими народами с 1792 по 1864 г.//Кубанский сборник. Екатеринодар, 1902. Т. 8.
Шамрай В. С. Историческая справка к вопросу о ясырях на Северном Кавказе и в Кубанской области и документы, относящиеся к этому вопросу//Кубанский сборник. Екатеринодар, 1906. Т. 12.
Щербина Ф. А. История земельной собственности у кубанских казаков//Кубанский сборник. Екатеринодар, 1883. Т. 1.
Щербина Ф. А. Колонизация Кубанской области//Киев-скан старина. 1883. Т. 7.
Щербина Ф. А. Общинный быт и землевладение у кавказских горцев//Северный вестник. 1886. .N » I.
Щербина Ф. А. Краткий исторический очерк Кубанского казачьего войска//Кубанское казачье войско 1696-1888/ Под ред. Е. Д. Фелицына. Воронеж, 1888.
Щербина Ф. А. Земельная община кубанских казаков //Кубанский сборник. Екатеринодар, 1891. Т. 2.
Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: В 2 т. Екатеринодар, 1910. 1913. Т. 1—2.
Щербина Ф. А. Экономическое развитие Северо-Западного Кавказа//Справочная книга: Кубань и Черноморское побережье на 1914 г. Екатеринодар, 1914.
Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа. Тифлис, 1914.
Литература и источники на иностранных языках
1. Bazancourt С. L. L'expedition de Crimee. L'armee franchise a Gallipoli, Varna et Sevastopol. Chroniques militaires de la guerre d'Orient. Paris, 1858. T.l.
2. Bazancourt C. L. L'expedition de Crimee. La marine fran-caise dans la mer Noire et la Baltique. Paris. Amyot, s. d. 1858. T. 1.
3. Bell J. S. Journal d'une residence en Gircassie pendant les annees 1837, 1838 et 1839. Paris, 1841. T.l.
4. Bedenstedt F. Die Volker des Kaukasus und ihre Freiheits-kample gegen die Russen. Frankfurt a/Main, 1848.
5. Dubois de Montpereux F. Voyage autour du Caucase. Paris, 1839. T. 1.
6. GоIovin J. The Caucasus. London, 1854.
7. Klaproth J. Reise in den Kaukasus und nach Georgien Berlin, 1812. B. 1
8. Peyssonel M. Traite sur la commerce de la Mer Noire? Paris, 1787. T. 1
9. Russian war, 1855. Black sea offic. correspondence. Ed. A.C. Dewar London. 1945 (Public, of the Navy Record Society, v. 85)..
10. Spenser E. Travels in Circassia, Crim, Tartary etc London, 1838. V. 1
11. Wagner M. Der Kaukasus und das Land der Kosaken in den Jahren 1843 bis 1846. Leipzig, 1850. B. 1.
источник: Сайт "Будет интересно"
-
21 ноября 2024, 11:34
-
21 ноября 2024, 10:29
-
21 ноября 2024, 09:47
-
21 ноября 2024, 07:36
-
21 ноября 2024, 06:19
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
-
21 ноября 2024, 04:26